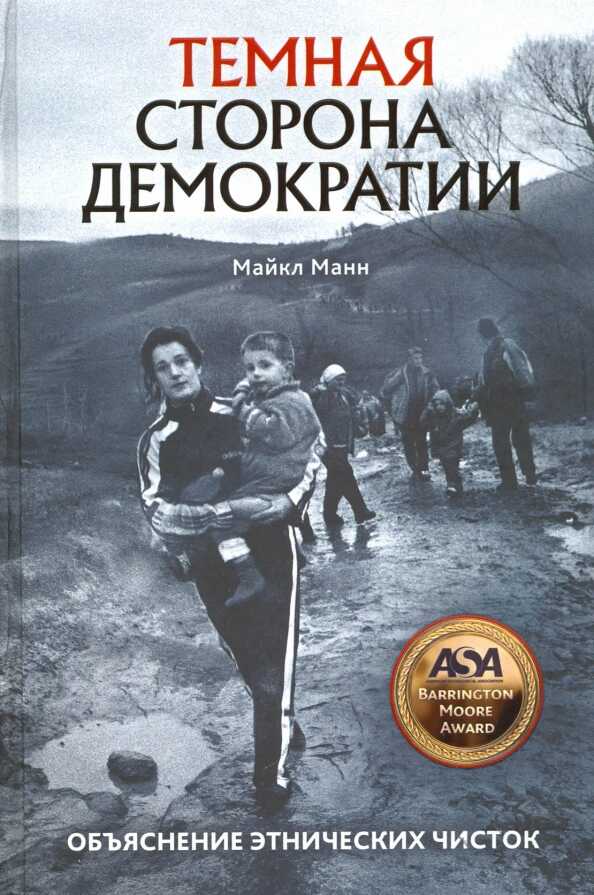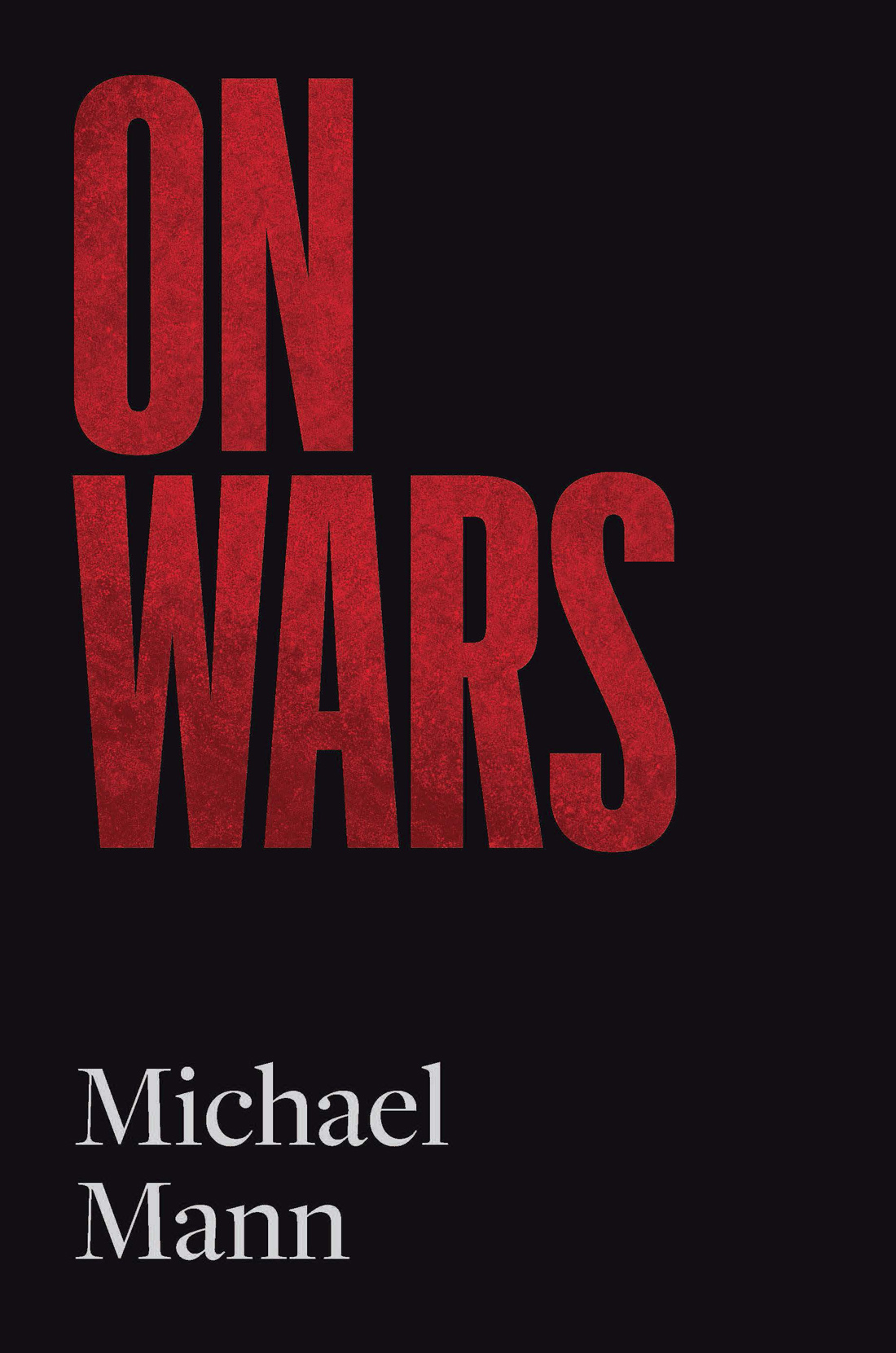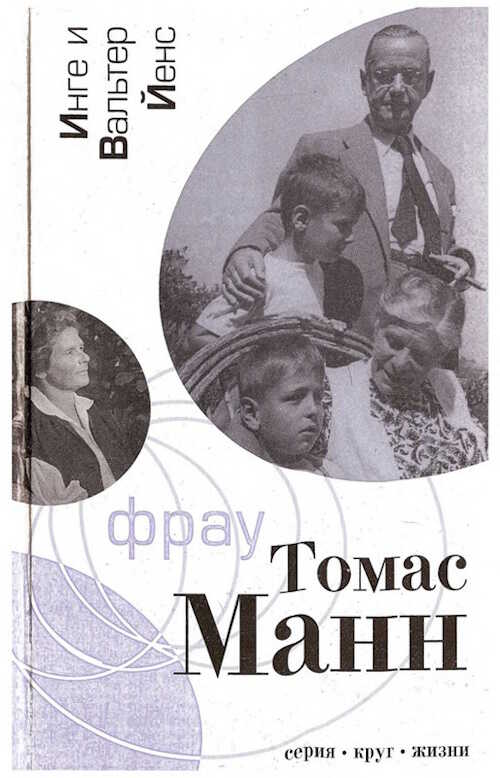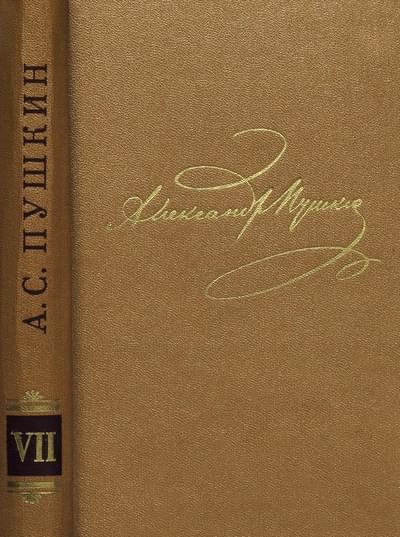В темнице этого общества восемнадцатого века, самого настороженного, самого мелочного, которое когда-либо существовало, быть свободным от оков хотя бы внутренне. Но за словами развратника, избегающего любви, слышны глухие перекаты грома; начинается мятеж личности против общества. Это поколение совершит революцию, в которой «равенство» не больше чем фраза, зато «свобода» станет отчаянно серьезным фактом. Освобождение индивидуума… Наконец он освобожден. И первый и величайший из новых людей, Шатобриан, несет свое ощущение одиночества, свою гордую тоску через степи, девственные леса, вдоль побережья океанов. А если бы теперь вернулся Вальмон? Вот он в «Исповеди сына века» Мюссе{11}: изрядно утомленный, чуть травмированный угрызениями совести, отрезвевший после распутной жизни, но все еще полный любопытства и снова влюбленный в какую-нибудь женщину, которая жертвует ему собой. Что же обнаруживает Мюссе на дне этой любви? Он обнаруживает: «В то время как твои губы касались его губ, в то время как твои руки обнимали его, в то время как ангелы вечной любви узами крови и наслаждения соединяли вас. в единое существо, вы были дальше друг от друга, чем двое изгнанников на разных концах земного шара, разъединенных между собой целым миром». Сколько влюбленных, сколько поэтов будут отныне повторять эти слова! Когда роман достиг своей вершины, пресыщение собственным одиночеством набросило черную вуаль на все творения Флобера. Глубокое одиночество — вот трагедия каждой души, описанной Мопассаном, — одиночество, о которое разбивают себе голову, одиночество, которое носят со светским высокомерием. Каждое возвышенное чувство мечено этим знаком на протяжении всего девятнадцатого века.
Восемнадцатому веку такое чувство чуждо. Любовник того времени легко воспринимает свое одиночество. Он считает своей заслугой эгоистический экстаз, в то время как другое существо для него только предлог, и он помнит о том, что та, которую в данный момент он пылко обнимает, а в будущем станет лишь средством привлечь к себе внимание салона; инструментом, который поможет подняться выше, дорогой к славе, и этому угнетенному существу он враждебен. Независимый и бессердечный, подвижной, в постоянном напряжении борьбы, смелый, без предрассудков, без следа какой бы то ни было тоски, элегантный, ленивый, думающий только о себе хищный зверь: таков Вальмон, младший брат Пиппо Спано{12}, человек эпохи Рококо, запоздалый путник эпохи Ренессанса. Конечно, в нем меньше сил и гораздо больше тщеславия. Форма ощущения, как и стиль искусства, за прошедшие три века стали тоньше, вычурнее; но основная линия та же, и путь, который избрала эта культура, еще не изменен и не приостановлен ничьей властной рукой. Любой салон середины восемнадцатого века — это опустившаяся республика пятнадцатого: в манере мышления, в господствующих инстинктах, в упорстве мести, выродившейся до мелочности, в вульгарном слове, то и дело прорывающемся сквозь шелест шелков, в жестокости чувств, прикрытых кружевами, в бессовестных поступках. Сделать из любовной истории ловушку, это еще наименее страшное, рыться в чужом письменном столе далеко не самое нескромное. «Мне жалко, что я не научился воровать, но наши родители не позаботились преподать нам это». На другом конце шкалы звучит другой тон: Едва я достиг этого триумфа, как мне захотелось крикнуть своему сопернику: «Полюбуйтесь на мое деяние и поищите второго, равного ему во всем столетии!» Так мог бы говорить римлянин, завоевавший половину земного шара; кондотьер — после долгожданного овладения местностью, за которой велось хитрое наблюдение целый год. Цезарь восемнадцатого века возвещает о своем деянии, собираясь овладеть женщиной.
Какие дурные времена! Какая никогда не прекращающаяся сознательная враждебность человека к человеку, какая неуязвимость к любому проявлению доброжелательства была в то время свойственна мужчине, дабы он с полным хладнокровием мог травить несчастную жертву, ввергая ее из одной пагубной страсти в другую, мог бы исторгать из инструмента этой души мелодии муки — и все лишь для вящей славы своей. Какой человек позднейшей эпохи в состоянии это попять? Может быть, лишь тогда, когда старое общество было, наконец, разрушено? Ибо только оно с его беспрерывными столкновениями самолюбий могло создать такие мозги. Человек становится злым, когда находится среди равных себе и настроен к действию. У себя в комнате, в лесу он не таков. Одинокий склонен к добру; сердечные и наивные проходят романтические годы, наивные и сердечные даже для вольнодумцев. Жажда мира между полами усиливается. Сознание того, что они находятся в состоянии войны, почти исчезает. В будущем эта вражда опять возникает как некая новая истина. Как изумился бы этому Вальмон! Но на лице вышколенной маркизы де Мертейль не дрогнул бы ни один мускул.
Ибо маркиза принципиально никогда не показывает того, что она в данный момент думает. Уж она постаралась, чтобы никто ни о чем не мог догадаться. Тотчас по вступлении в светскую жизнь она вымуштровала себя и, подавляя каждую непроизвольную радость, причиняла себе боль, чтобы научиться скрывать свои чувства под личиной веселости; в первую брачную ночь она не позволила себе обнаружить испытываемое ею удовольствие, дабы супруг счел ее холодной и проникся к ней доверием. Среди ее любовников нет ни одного, кто не счел бы себя единственным; ибо ни один из его предшественников или последовавших за ним соперников не смел ни о чем проболтаться; о каждом из них маркизе известна какая-нибудь опасная для него тайна, даже о Вальмоне. Она сознает, что превосходит достижения Вальмона. Пусть многих женщин он сделал несчастными; а если бы он сам потерпел поражение? Было бы одним успехом меньше, всего только; но маркиза — та рискует головой. Насколько большей хитростью необходимо обладать ей! «Поверьте, виконт, редко приобретают те свойства, без которых можно обойтись». Из тщеславия, заставляющего ее держать своих любовников в узде и жить наперекор обществу, Мертейль проявляет волю, достойную Катарины. Поистине она на уровне своего столетия. Вальмон напрасно сравнивает себя с Туренном и Фридрихом{13}; он чересчур хвастлив; область, в которой он трудится, нельзя считать поприщем для таланта мужчины, он сам это однажды почувствовал. В этот женский век он может играть только вторую роль. И лишь Мертейль, этот женский гений, подымает любовную интригу до уровня высокой философии, до крупной игры за власть. «Наш девиз: побеждать». «Я спускаюсь в собственное сердце и там изучаю сердца других». Вальмону известно лишь то, что касается его самого, то, чему его научила его практика обольстителя. У него, к примеру, совершенно ложное представление о старых женщинах. Он даже не подозревает, что в действительности чувствует к нему его прежняя возлюбленная Мертейль с тех пор, как они мирно расстались; он воображает, что такая