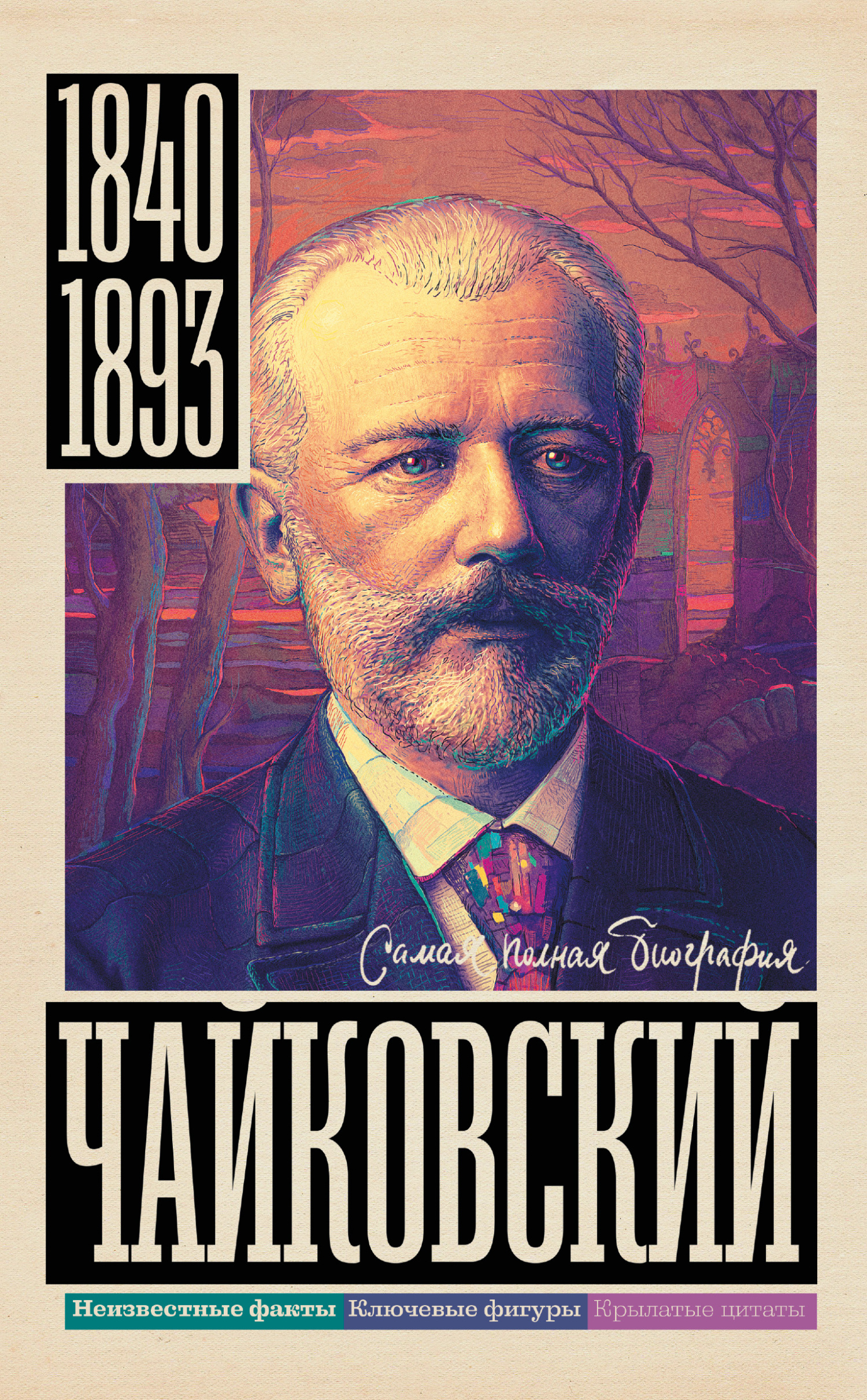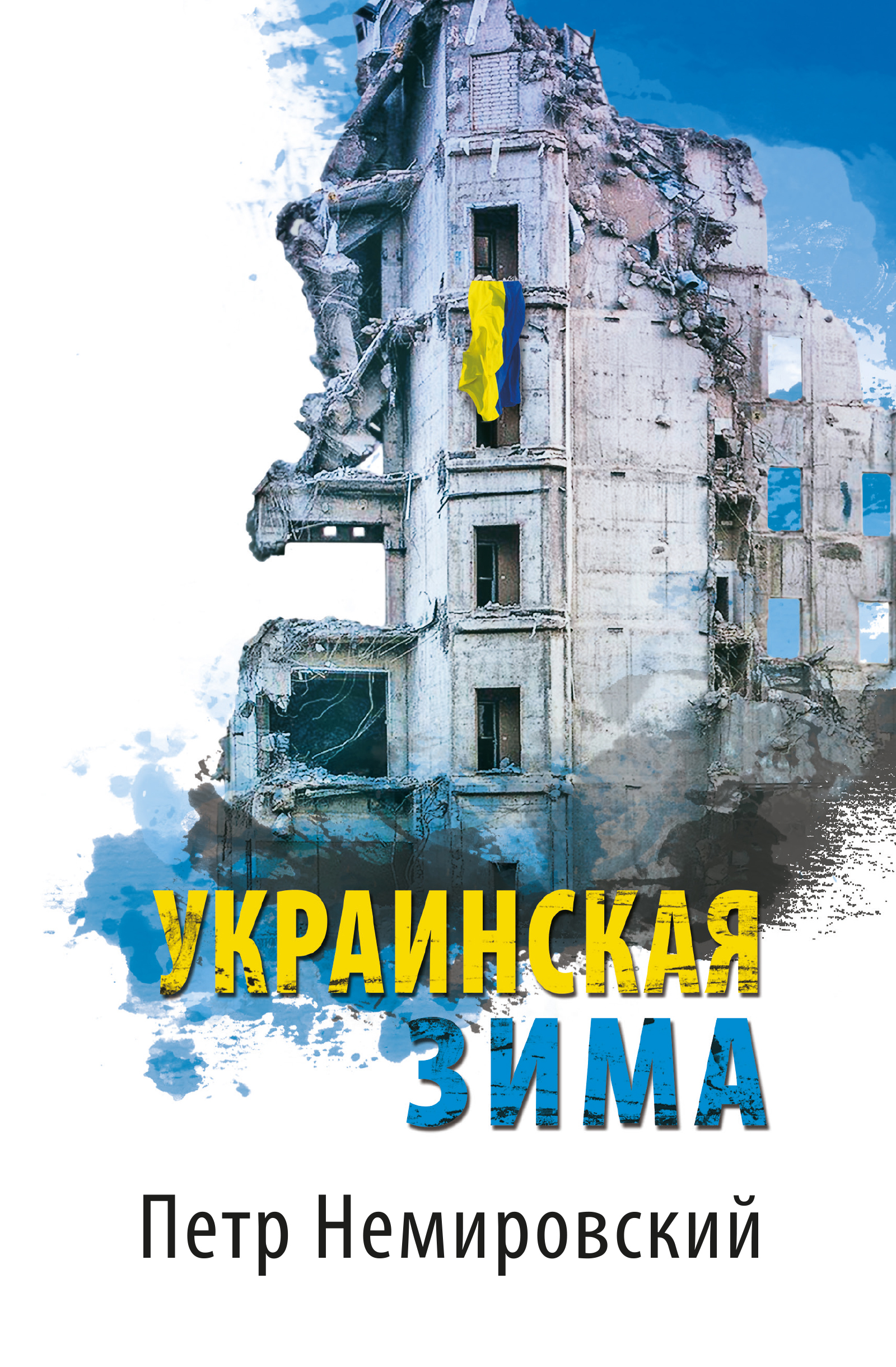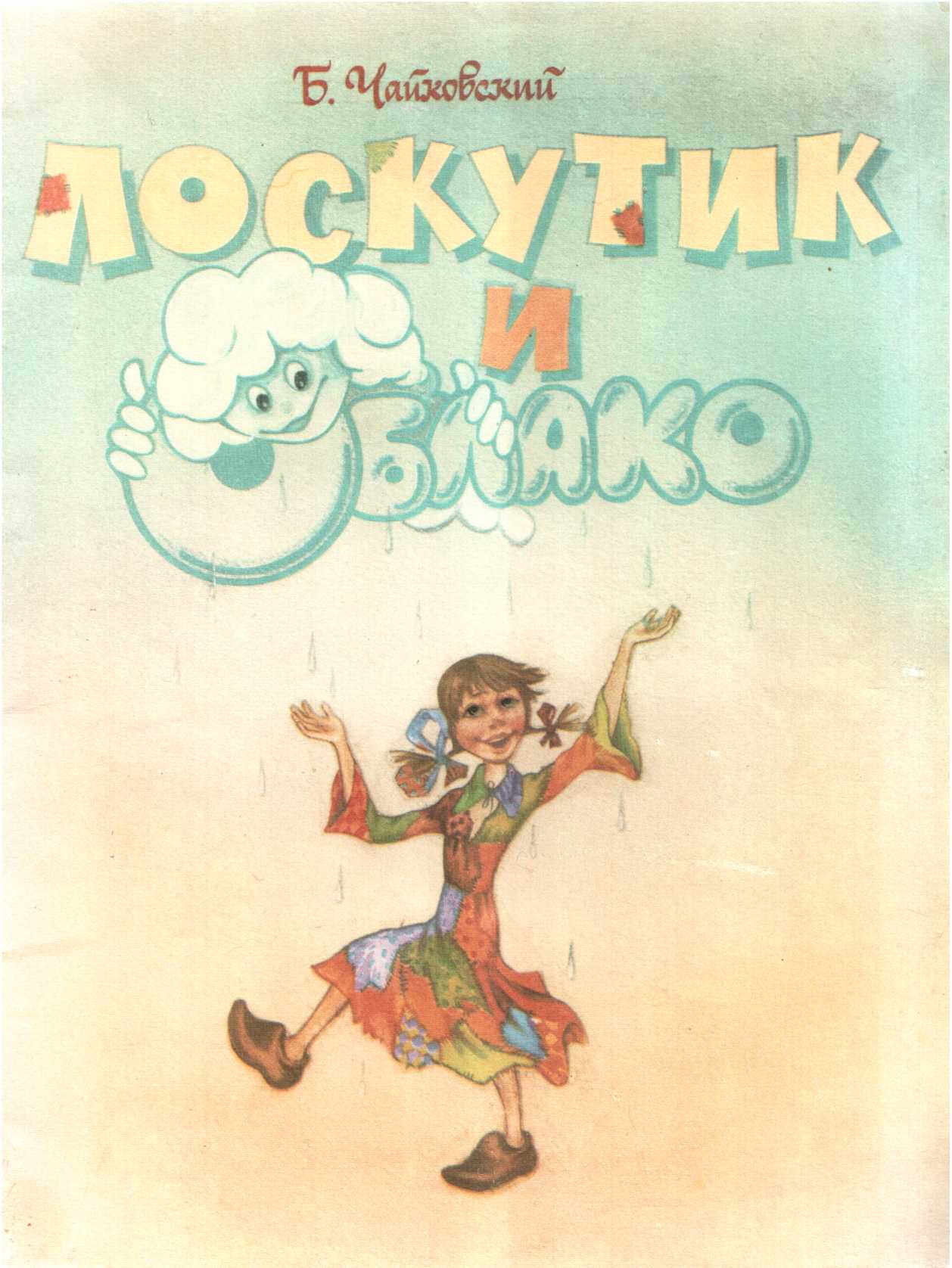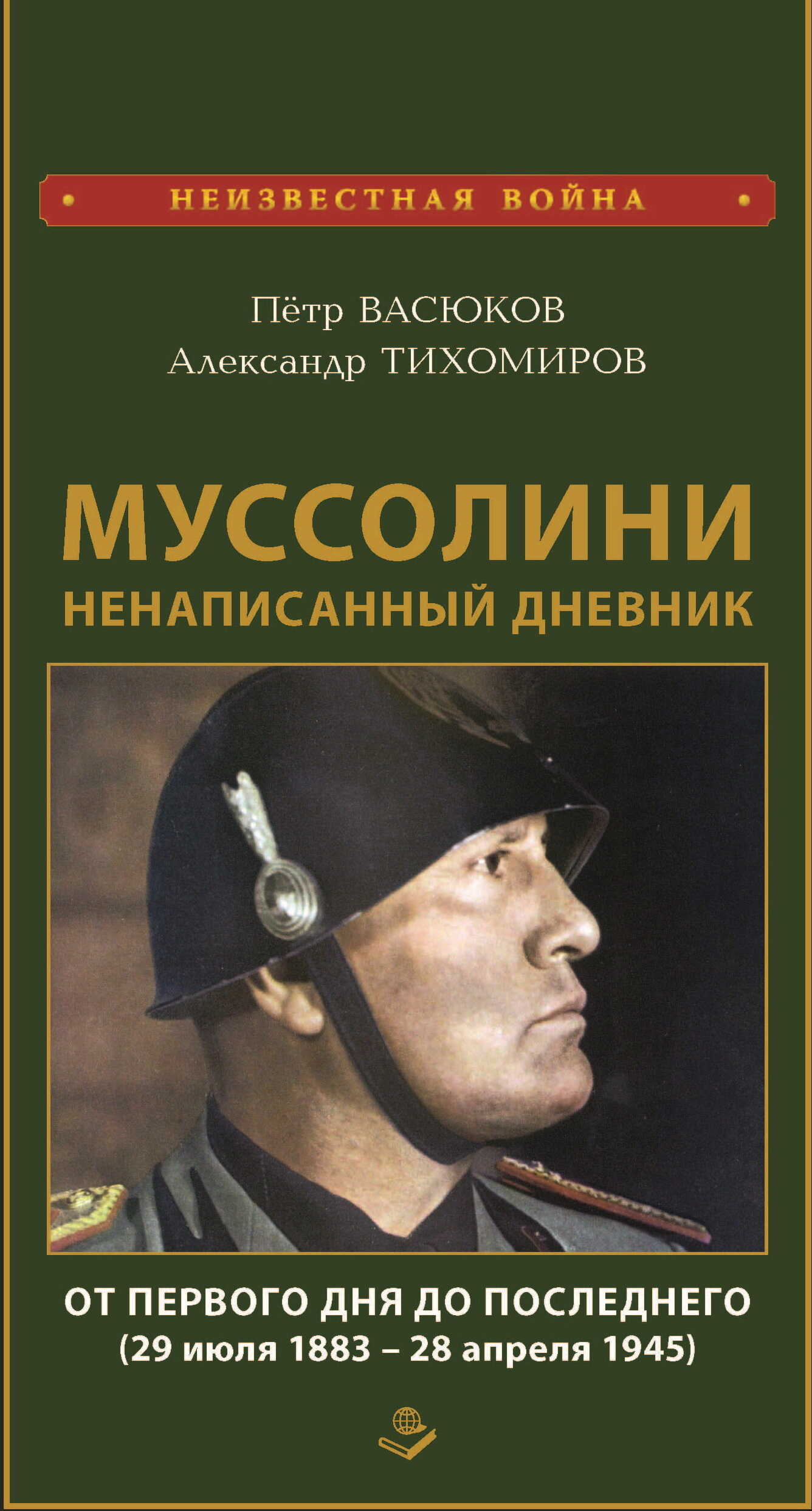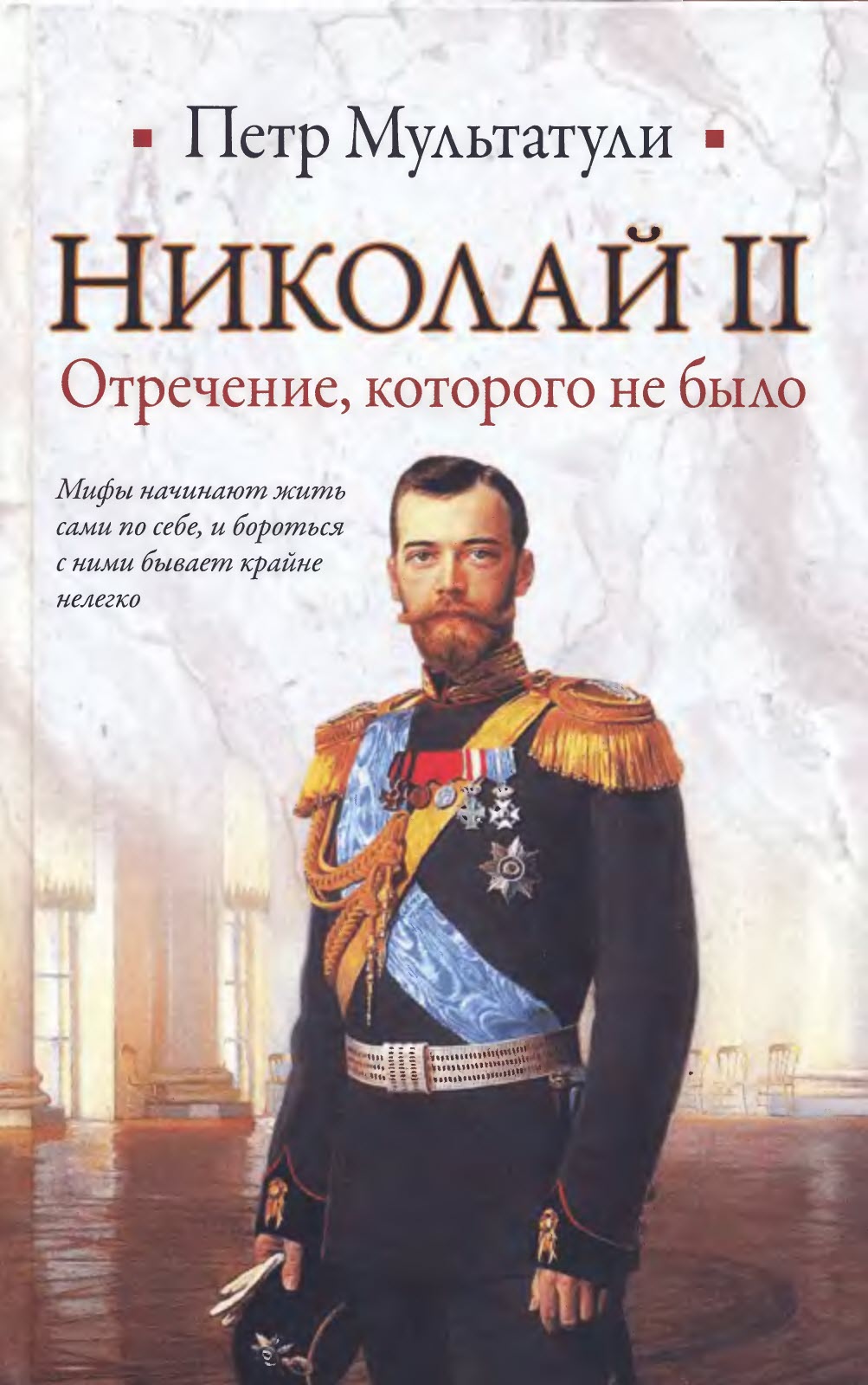Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 147
точностью.
Между тем в Московской консерватории стали деятельно готовиться к постановке «Евгения Онегина». Задача была очень трудная для учеников, а в то же время всем хотелось выполнить ее сколь возможно лучше. Исполнители были намечены, партии розданы, и стены консерваторских классов стали оглашаться звуками новой оперы. Наше увлечение музыкой «Онегина» начало передаваться учащимся, и все принялись за работу с необычайным рвением. В консерватории был в то время обычай, – свято соблюдаемый и до сих пор, – в день именин Н. Г. Рубинштейна 6 декабря устраивать в виде именинного подношения или спектакль, или музыкальный вечер. На этот раз на крохотной консерваторской сцене вознамерились исполнить часть «Евгения Онегина» в виде подготовки к исполнению оперы на сцене Малого театра весной. Альбрехт, Губерт и Самарин были в этом случае главными работниками, и им удалось к 6 декабря приготовить едва ли не весь первый акт.
После рождества занятия оперой пошли усиленные, и в половине марта назначен был спектакль в Малом театре, в котором «Евгений Онегин» должен был исполняться весь. Ничем и никогда в консерватории не интересовались так, как подготовкой к этому представлению: певцы, оркестр, хор работали с полным усердием, а В. И. Самарин делал просто чудеса относительно сценической выправки участвующих. Наконец начались репетиции на сцене Малого театра и возбуждали чрезвычайный интерес не в одной только консерватории, – по Москве уже много говорили о новой опере, и множество лиц добивалось позволения попасть на эти репетиции, но удавалось это сравнительно немногим, потому что Н. Г. Рубинштейн очень не любил присутствия посторонних на черновых репетициях. Чайковский не на словах только, а на самом деле вполне полагался на своих друзей, трудившихся над его оперой, и совсем не спешил с приездом в Москву. Наступила наконец последняя репетиция без публики (хотя набрался, однако, полный партер так называемых своих людей), а композитора все еще не было. Наконец, все уселись на места, я ушел в кресла амфитеатра, и когда перед самым началом в зале наступила полная тьма, только виднелись свечи у оркестровых пультов, я услышал, что сзади меня кто-то пробирается и отыскивает свободного местечка. По топоту я узнал Чайковского, окликнул его тоже топотом, и потом мы так звучно расцеловались, что возбудили в темной зале даже некоторый соблазн. Я усадил Чайковского рядом со мной, и мы начали слушать оперу. Все шло отлично, а чудная стройность и свежая звучность голосов молодого многочисленного хора производила просто чарующее впечатление. В сцене письма, когда на тремоло оркестра в виолончелях появляется в C-dur тема любви Татьяны, Чайковский прошептал мне на ухо: «Какое счастье, что здесь темно! Мне это так нравится, что я не могу удержаться от слез». – Но и со мной было то же самое. – Очень много раз приходилось мне слышать оперу после, но все-таки более сильного впечатления, нежели на этой репетиции, я, кажется, не получал. Н. Г. Рубинштейн имел дар вселять в учащихся такое бодрое одушевление, такую уверенность в своих силах, что в исполнении у них иногда являлось истинно артистическое увлечение, какого дай бог и настоящим опытным артистам, – так было и на этот раз.
Как мне говорил Чайковский, ария князя Гремина была им написана только потому, что в 1878 году в составе учеников консерватории находился бас Μ. Μ. Корякин, теперешний артист петербургской оперы, которому автор оперы хотел дать видный номер, иначе по ходу действия в арии этой совсем не было особой надобности. Так как постановка «Онегина» отложена была до 1879 года, то Μ. Μ. Корякин успел окончить курс и уехать из Москвы, где ему не пришлось петь специально для него написанной арии.
К первому представлению из Петербурга приехали А. Г. Рубинштейн, Г. А. Ларош и многие другие лица. Зала Малого театра была наполнена так, как это едва ли случалось когда-либо; в некоторых ложах не сидели, а стояли сплошной стеной человек по пятнадцати, как это ни трудно себе представить. Затрудняюсь сказать, имел ли «Евгений Онегин» большой успех на первый раз? Кажется, вполне решающего успеха не было, потому что при всей ясности музыка эта, особенно в лучших ее частях, не может сразу быть понятой малообразованными в музыкальном отношении любителями, составлявшими главный контингент слушателей. С другой стороны, не совсем довольны были почитатели Пушкина, как, например, Μ. Н. Катков, потому что оценить достоинств музыки они не могли, а заметить отступления от Пушкина, хотя и весьма немногие, было совершенно в пределах их компетенции.
Но не только такие лица, даже самый крупный ценитель, А. Г. Рубинштейн, со свойственной ему прямотой отозвался не совсем одобрительно относительно оперы тотчас же после спектакля за ужином, на котором собралось нас человек двадцать. Чайковский всегда очень хорошо чувствовал меру успеха, даже и в позднейшие дни, когда всякое появление его вызывало овации, тем более верно мог он оценить этот успех в 1879 году, когда его широкая известность только еще начиналась, но он остался очень доволен главным образом потому, что почувствовал внутреннее удовлетворение своей композицией. Он продолжал, однако, считать «Онегина» неудобным для больших сцен и не надеялся на постановку оперы в императорских театрах Москвы и Петербурга. П. И. Юргенсон между тем напечатал клавираусцуг «Евгения Онегина», и тут вдруг оказалось, что музыка эта имеет успех огромный, почти беспримерный по числу проданных экземпляров полного клавираусцуга в данный промежуток времени. В Петербурге рецензентам «Евгений Онегин» большей частью не понравился и попал там на сцену Мариинского театра лишь пять лет спустя. У нас в Москве благодаря тому, что артистическим заправителем Большого театра был г. Бевиньяни, очень охотно руководствовавшийся советами Н. Г. Рубинштейна, «Онегина» поставили на следующий же год, то есть в 1880 году.
VIII
С 1879 года свидания мои с Петром Ильичом становятся сравнительно редкими, переписывались мы только в случаях какой-либо особой надобности и ограничивались при этом сообщением необходимых вещей, не вдаваясь ни в какие подробности о личной жизни, так что связная нить моих воспоминаний прекращается, и мне остается добавить лишь несколько эпизодов из наших встреч в последующие годы. Наши взаимные дружеские отношения оставались неизменными до конца, но поводов к постоянной переписке не было, тем более что покойный друг мой постоянно жаловался на необходимость писать много писем в ответ на получаемые им с разных концов России и Европы. Из московских друзей он находился в постоянных отношениях только со своим издателем П. И. Юргенсоном, владеющим коллекцией в несколько тысяч писем и коротеньких записок Петра Ильича. В
Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 147