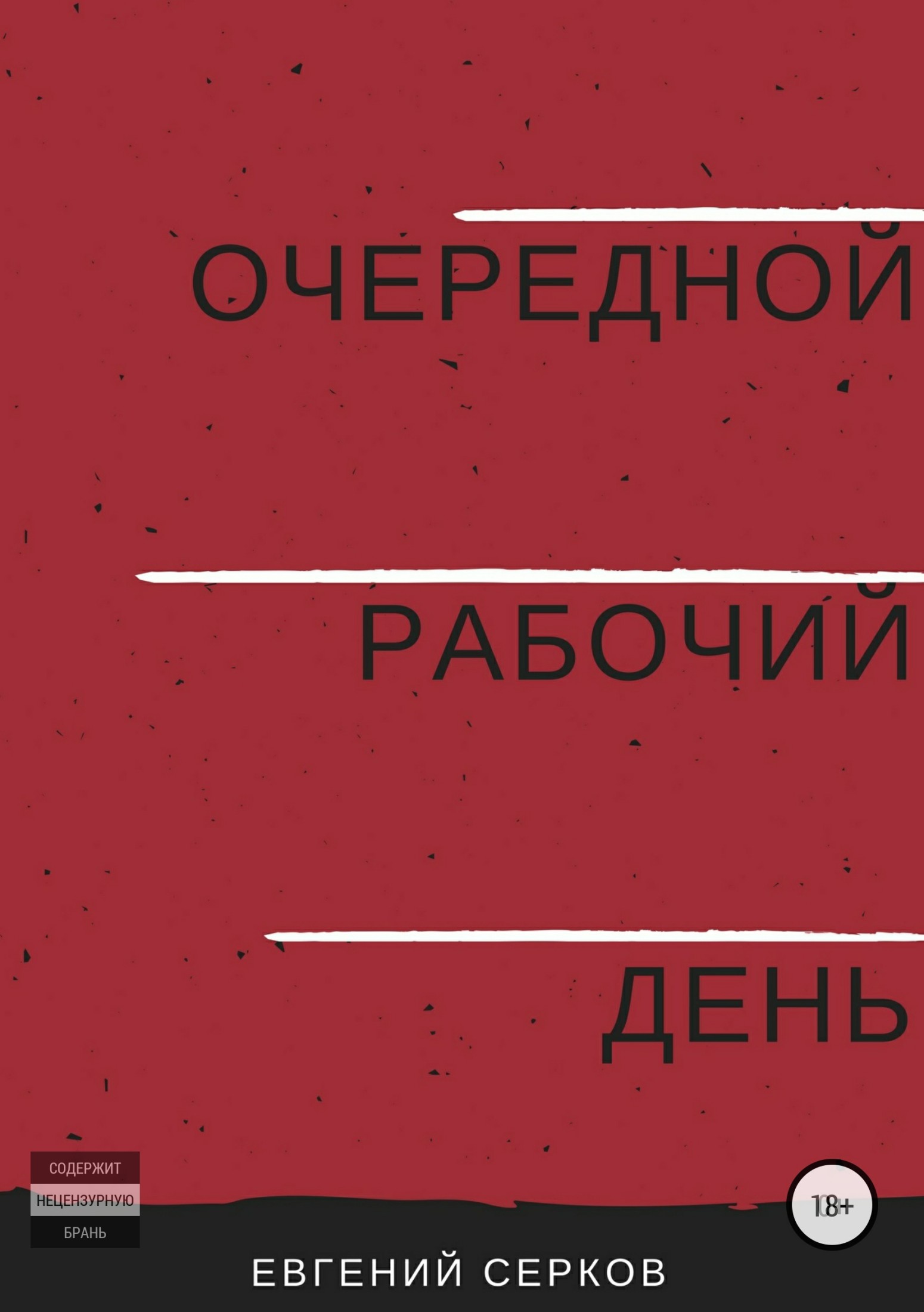крессе с ногами, свернувшись в маленький, и печальный клубочек.
— Я сказала, что темнею, и совсем скоро я сменю сторону, и ты, возможно не захочешь даже подать мне руки, когда мы случайно встретимся на улице.
— Глупости ты говоришь, родная. Ты с чего это взяла?
— Я вчера еле себя сдержала, что бы не выпить его до конца. Мне одна темная сказала, что все, что мы пьем это сущая ерунда и самый последний глоток самый сладкий, с ним мы поглощаем самую сущность человека, его душу.
— Зачем тебе его душа? Тебе энергии мало?
— Мне стало скучно, хочется разнообразия, я стала злее. Гораздо злее, в последнее время.
— Но ведь ты сдержалась, это о многом говорит.
— Я не могу тебе сказать, на каких остатках самообладания я балансировала, но что меня удержало отнюдь не сознание того, что я поступлю как темная. Я скорее, испугалась.
— Ты меня пугаешь, и я надеюсь, что это просто очередная блажь твоего сознания. Может тебе отдохнуть?
Я подошла и, присев возле кресла, положила голову ей на колени.
— Я хочу, что бы ты знала, что бы ни произошло, я всегда буду с тобой. Я не буду тебя осуждать. Это твоя жизнь и ты вправе проживать ее так, как ты считаешь нужным. Это твои решения и, зная тебя, я уверена — они не скоропалительные. Это твоя судьба, сделавшая тебя суккубом и ведущая тебя за руку. Это ты. Такая, какой тебя сделала природа, и я люблю тебя такой, какая ты есть.
— Спасибо, родная, — Амии перебирала пряди моих волос и рассеянно смотрела в пустоту, — спасибо. Я не знаю еще ничего, все так зыбко, так расплывчато. Я думаю, что скоро я смогу открыть тебе тайну моего нового романа.
— Отчего мне кажется, что это темный?
— От того, что он темный…
— Это многое объясняет.
— Я не из-за него темнею. Это всегда было во мне. Мне всегда было нелегко сдержаться, и очень часто я балансировала на грани. Ты помнишь Амстердам?
— Как можно забыть?
Говорить больше было нечего, все уже было сказано. Я просто сидела и думала, о чем? Я думала, что скорее всего это сидело в Ами уже давно, она никогда не была, то что называется — светлейшей. Она и раньше допускала промахи и получала предупреждения. Она была совсем не такой как моя Ева.
Мы с ней были примерно одного возраста. Но когда только познакомились она могла дать мне сто очков вперед в плане «суккубистости» ее ведь воспитывал настоящий инкуб, и она была подкована на все сто процентов. То, чему мне приходилось учится методом проб и ошибок, или добирая интуицией, ей показывали и рассказывали. И практиковалась она не на обожаемом учителе, с каждым разом умирая от ужаса и сдерживаясь, а на смертных, имея поддержку за спиной. Она не любила себя контролировать и была очень порывиста в период нашей с ней юности. Славно мы с ней тогда покуролесили, она, можно так сказать, была моим дополнительным учителем, она подсказывала мне все, что знала сама, ничего не утаивая. Но ей казалось смешным всерьез, как я, увлекаться смертными.
— Есть они и есть мы. — частенько говорила она мне, — мы их слегка надпиваем, берем необходимое, а что мы дарим взамен? Неземное блаженство. Я думаю это вполне разумная цена за неземное блаженство, немножко энергии, которая восполнится через пару — тройку дней.
…не всегда она восстанавливалась через несколько дней… Я помню юношу, который навсегда заболел ею, она тогда еще не умела, как следует зачищать память. он прожил всю свою жизнь, грезя ею. Он молился на нее. И умер с ее именем.
Я бы очень хотела, что бы все, что она мне сказала, оказалось лишь очередной блажью ее сознания, но увы. Я вполне верила в то, что она сменит сторону силы, наверное, потому, что давно уже ждала этого.
— Родная… мне будет больно, но я… я не оставлю тебя, даже если ты будешь стоять по ту сторону.
— Спасибо… прости. Я не хотела но так получилось. Это давно сидело во мне.
— Я знаю…
— Знаешь?
— Чувствовала это все время в тебе, но не хотела говорить. Я думала, ты знаешь.
— Я не знала, просто когда… когда я поняла, что люблю… я не готова сейчас сказать кого именно, я начала копаться в себе и мне стало страшно от того, что я там откопала. Я тоже начала анализировать и поняла, что я всегда тяготела именно ко тьме. Мой учитель, он был светлым, но я тебе не говорила — он сменил сторону силы спустя пару столетий после нашего знакомства. И я продолжала с ним общаться, и он продолжал меня учить. Нет, он меня ни к чему не склонял, не настаивал, просто учил. Я не смогла его оставить. Не потому, что это предательство. А потому что я тяготела ко тьме. Уже тогда.
— Что ж, значит так тому и быть, об одном прошу тебя — не убей… Они живые, они не скот, они любят, страдают, чувствуют, живут. Да, им неподвластно многое из того, что можем мы, да, срок их жизни предельно короток, они болеют, страдают и мучаются. Не убей, не преступи черты, ведь ты сама себя уважать не сможешь. Я ведь знаю тебя — ты милая, чистая, искренняя, чудная, родная. Такая, до бесконечности родная ты мне.
— Я постараюсь, я буду очень стараться не преступить той черты. Но с каждым разом мне становится все сложнее сдерживать себя.
— Ты сильная, ты сможешь.
— Ты думаешь?
— Знаю, я это знаю.
Больше между нами не было сказано ничего, да и к чему теперь слова. Я посмотрела на нее нашим особым взглядом, увидела ее ауру, и еле сдержала горестный всхлип. Она говорила мне, что темнеет, но она ошибалась… Она уже стала темной. Не знаю, что она сделала прошедшей ночью, но это стало, по всей видимости, последней каплей. Я давно уже не смотрела ее ауры, иначе заметила бы, что с ней происходит неладное. Но это было не по товарищески, не по дружески, не по-сестрински.
— Амочка, ты не темнеешь, — слова давались мне с трудом, казалось в горле стоит комок, — ты уже…
И не договорив, я зарыдала.
— Значит, свершилось, — она встала и подойдя к окну отдернула шторы задернутые Учителем, — окно напротив, ты видела? У него там подзорная труба, направленная на твои окна.
— Я знаю.
— Ты с ним уже знакома?
— Зачем он мне? Он меня питает каждое утро и