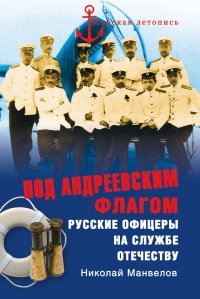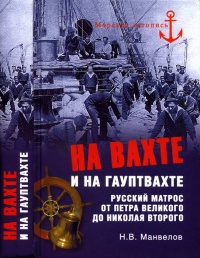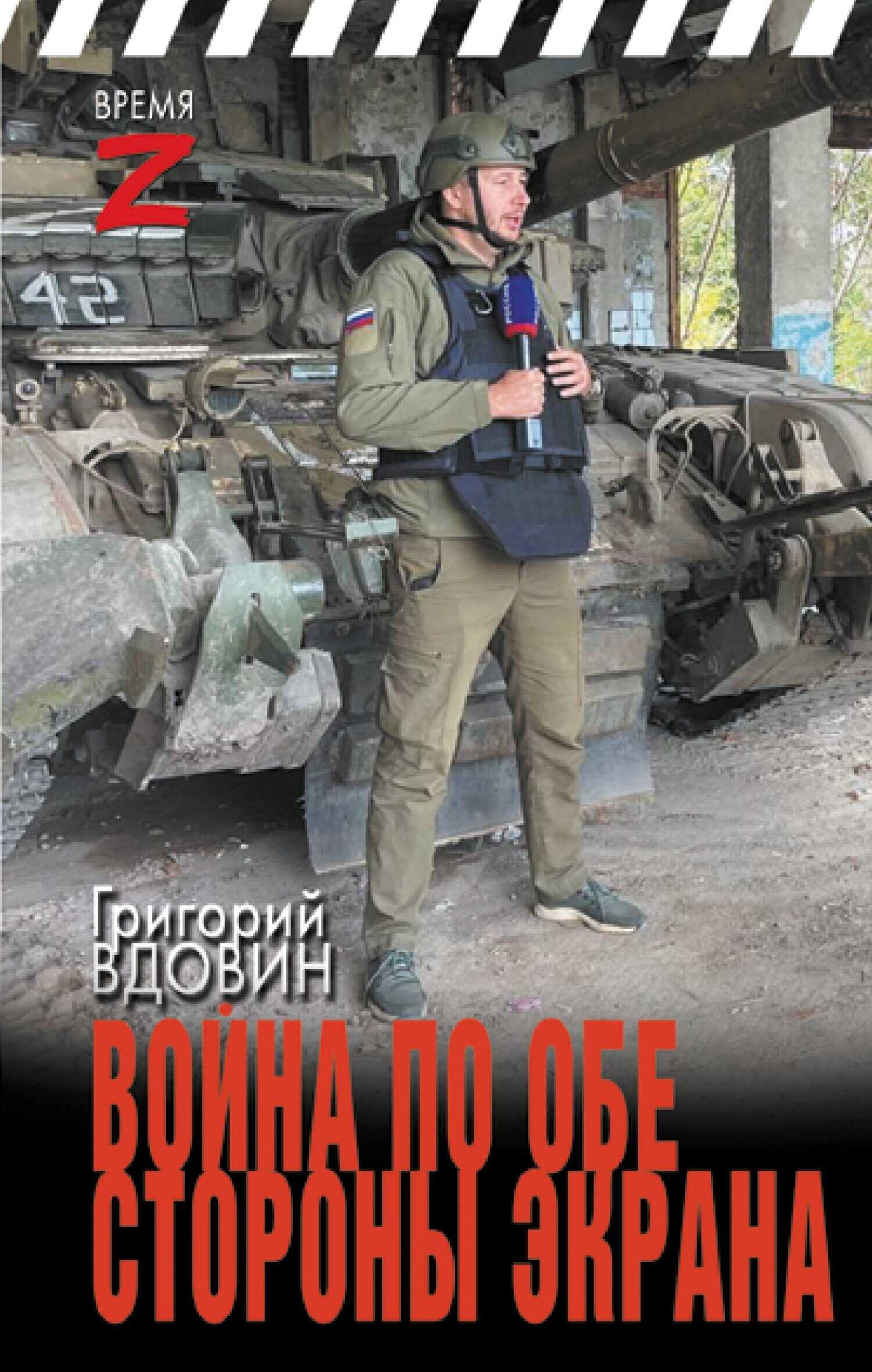года. Он был куплен в Великобритании в том же 1843 году для Охотской военной флотилии и имел водоизмещение 310 тонн, длину 27,4 метра и ширину 7,1 метра. Экипаж состоял из 63 человек.
В мае следующего года, избитый штормами, «Иртыш» прибыл в Петропавловск, после чего до самой войны перевозил пассажиров и грузы. Именно на «Иртыше», как мы помним, посетил в 1847 году Петропавловск генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев.
В 1848 году в Гельсингфорсе[71] был спущен на воду транспорт Охотской военной флотилии «Байкал», имевший водоизмещение 250 тонн, длину 28,7 метра, ширину 7,5 метра и осадку 5,1 метра при двух гладкоствольных орудиях. Экипаж состоял из 30 человек, а первым командиром корабля стал будущий адмирал, известный исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской.
21 августа 1848 года транспорт ушел из Кронштадта в Петропавловск, куда прибыл 12 мая следующего, 1849 года. Сдав груз, Невельской приступил к съемке берегов Сахалина, открыв пролив, названный впоследствии его именем. Стоит сказать, что на тот момент особых сомнений в том, что Сахалин – полуостров, ни у кого в мире не было. Поэтому капитан-лейтенант Невельской нарушил приказ, требовавший у него вести съемку в другом районе побережья острова.
Впрочем, именно открытие командира «Байкала» в дальнейшем окажет русским морякам такую услугу, на которую союзный англо-французский флот даже и не мог рассчитывать. Но об этом – позже.
В 1849–1854 годах корабль также перевозил грузы и крейсировал у берегов Охотского моря.
Положение осложнялось и тем, что оба вышеназванных транспорта имели не лучшую репутацию у моряков. Как отмечал современник: «…транспорты “Иртыш” и “Байкал” – суда небольшие, старые, давно отслужившие свой срок и несмотря на то, что обошли вокруг света, – самых дурных морских качеств, в особенности “Иртыш”, который не только бросался в глаза уродливым и допотопным видом, но еще был замечателен по скверному ходу. Вообще, смотря на эти два судна, нельзя не подивиться, как решились отравить их в дальнее плавание, каким образом были доверены им жизнь людей и честь флага, значительные и ценные грузы, а также нельзя не отдать должной справедливости офицерам, благополучно плавающим с ними по настоящее время!»
Последним и самым крупным транспортом Российского Императорского флота в дальневосточных водах оказалась трехмачтовая «Двина», спущенная на воду на Охтенской верфи в 1852 году. Водоизмещение судна составляло 655 тонн при длине 39 метров, ширине 10,6 метра и осадке 4,8 метра. Экипаж состоял из 65 человек, на вооружении транспорт имел 10 18-фунтовых гладкоствольных орудий.
20 сентября 1852 года «Двина» ушла из Кронштадта на Камчатку, приняв по дороге в английском Портсмуте еще 400 пудов[72] груза. 27 августа 1853 года она прибыла в порт назначения. По дороге, 5 июня, экипаж транспорта открыл группу из 16 островов, названную «группой Великого князя Константина».
Стоит сказать и о небольшом кораблике, который носил название Палубного бота № 1[73]. Он был спущен на воду на Камчатке в 1853 году для Охотской военной флотилии, предназначался для перевозки пассажиров и грузов между портами Дальнего Востока. Тактико-технические данные судна (за исключением водоизмещения – 45 тонн) автору, увы, не известны.
Добавим, что один из транспортов, направленных из Кронштадта на Дальний Восток, до цели, так же как и уже упоминавшийся корвет «Наварин», не дошел. Речь идет о паруснике «Неман», спущенном на Охтенской верфи в 1853 году и ушедшем из России на следующий день после «Авроры» и «Наварина», 22 августа. Транспорт имел водоизмещение, аналогичное «Двине», но был несколько меньше (длина 33,2 метра, ширина 8,7 метра) при большей осадке (6,1 метра).
Плавание, как и у «Наварина», не задалось практически сразу. Сначала шторма вынудили зайти в датский Эльсинор, выйдя с рейда которого транспорт попал в сильный шторм и 27 сентября разбился в норвежских шхерах. Командир корабля был отдан под суд и разжалован[74] с разрешением вернуться позже во флот мичманом; экипаж на пароходофрегате «Отважный» вернулся в Кронштадт из Копенгагена.
Потеря «Немана» была для Камчатки весьма чувствительна. Транспорт, в частности, перевозил две бомбовые пушки[75] и несколько 36-«фунтовых длинных пушек, со всеми к оным принадлежностями и снарядами». Кроме того, на борту находилось оборудование для трех стационарных маяков, которые предполагалось расположить в окрестностях Петропавловска на мысе Бабушкине, Раковом и Сигнальном (идея устройства была делом рук Завойко). Убытки казны составили 177 410 рублей 27 копеек.
Впрочем, часть груза удалось спасти – этим занялся датский подданный, выговоривший себе в качестве гонорара половину стоимости имущества, поднятого на поверхность. Подъемом занимался водолаз, «который работал каждый день. Койки, паруса, тросы и тому подобные вещи старались достать ранее, так как они могли испортиться зимою. Спасенные вещи были перевезены в Кронштадт, вместе с командою транспорта, на пароходофрегате “Отважный”».
Надо сказать, что, хотя русский офицер того времени чаще всего отличался неприхотливостью, условия его службы во многих случаях были немногим лучше, чем у матроса. Вот что писал позже о плавании на Дальний Восток офицер «Авроры» Николай Фесун:
«Как часто на пути в Петропавловск и потом на обратном походе “Авроры” в Россию, продрогнув и промокнув до костей на какой-нибудь шестичасовой вахте, спустишься, бывало, вниз, и что же? Вместо сухого угла и теплой постели в каюте встречаешь потоки воды, подушки и одеяло хоть выжми, везде сырость, невыносимый скрип и треск, ватер-вельс[76] отходит на два дюйма[77] от борта, кницы[78] лопаются десятками, бимсы садятся, каютные переборки выдавливаются ими из своих мест, в кают-компанию, чрез разошедшиеся пазы батарейной палубы, вода протекает свободно и тут, конечно, бывает уже не до отдыха. И по неволе вспомнишь те крепкие, дубовые, английские и французские фрегаты, которым нипочем все штормы и непогоды и которые, как например английский фрегат President, после 20-летней службы еще так хороши и благонадежны, что спокойно ходят вокруг света, без малейшей надобности в починках и исправлении!»
Напоследок стоит сказать о судне, которое, хотя и несло русский коммерческий флаг, вполне могло также принять участие в боях против союзников. Речь идет о вооруженной яхте Санкт-Петербургского императорского яхт-клуба «Рогнеда», принадлежавшей командору клуба князю Александру Лобанову-Ростовскому. Князь, служивший в Российском Императорском флоте в чине капитан-лейтенанта (а первоначально – в лейб-гусарах), вышел в море из Кронштадта 22 августа 1853 года. Командовал яхтой 28-летний лейтенант Александр Федоров.
2 февраля 1854 года изрядно потрепанная штормами яхта прибыла в Рио-де-Жанейро, откуда собиралась уйти 10 марта. Впрочем, выйти в море «Рогнеда» не смогла – адмирал, командовавший стоявшей на рейде британской эскадрой, «выказал