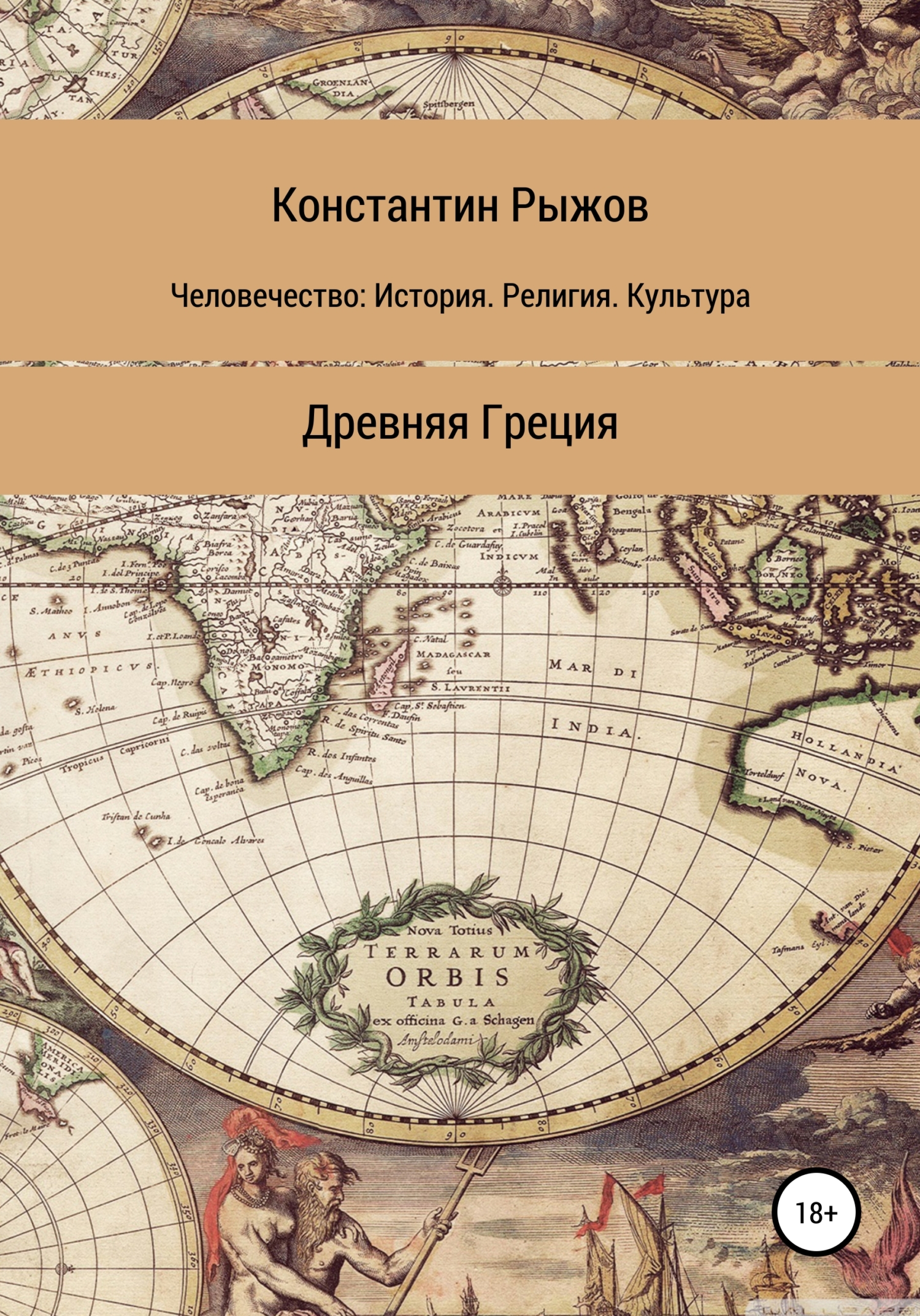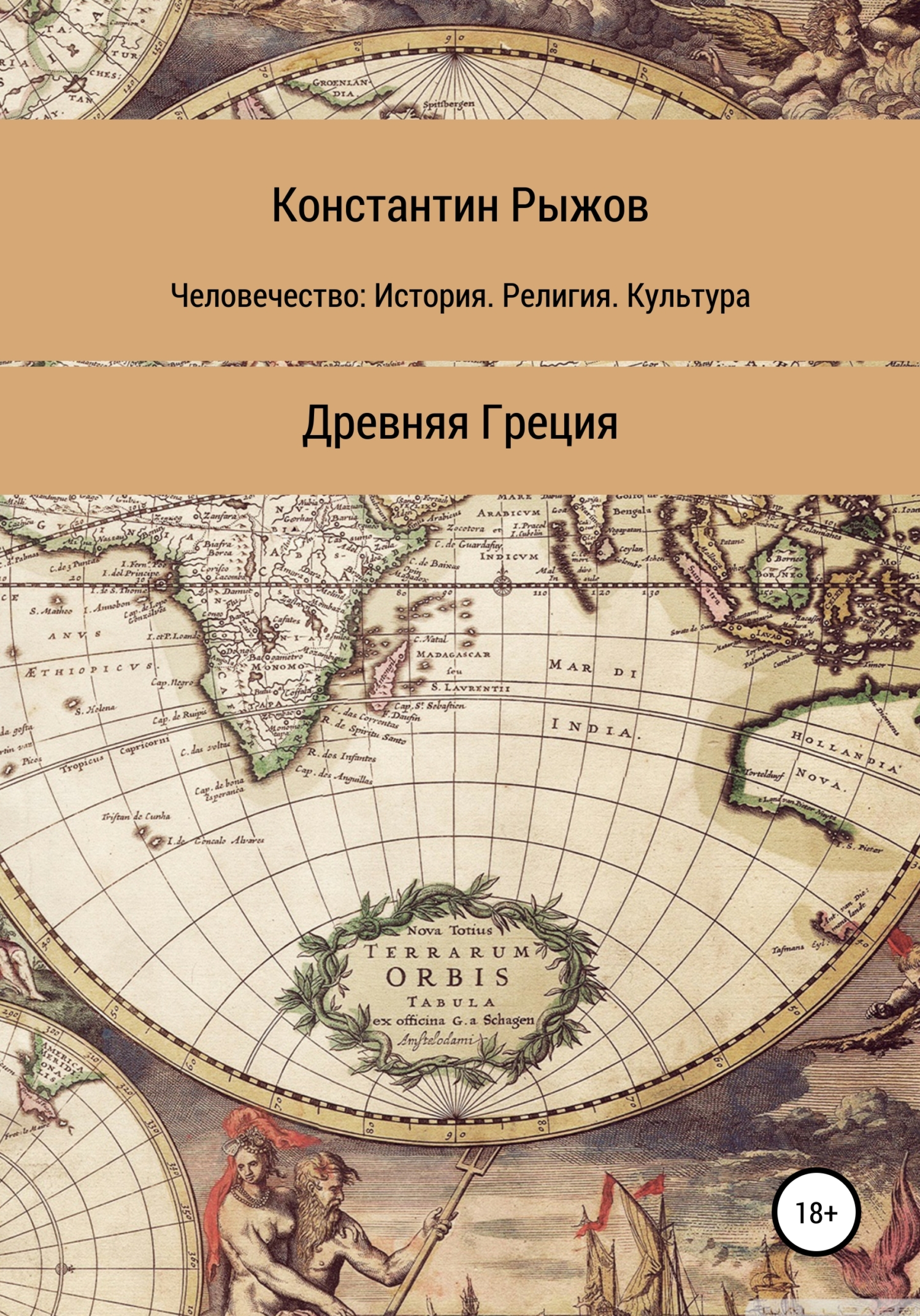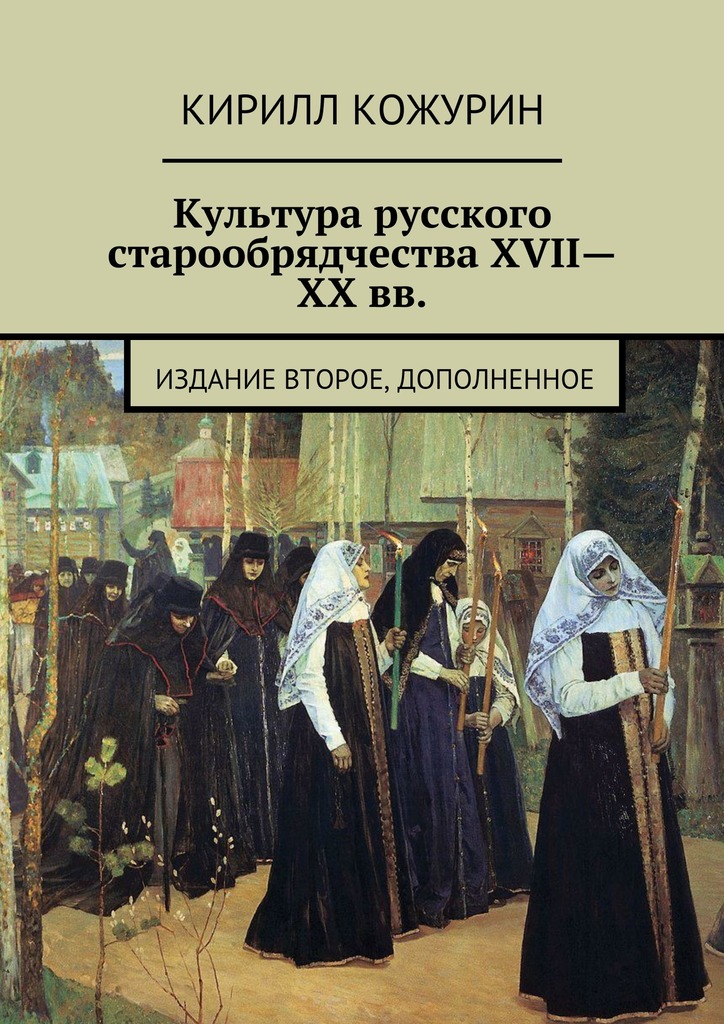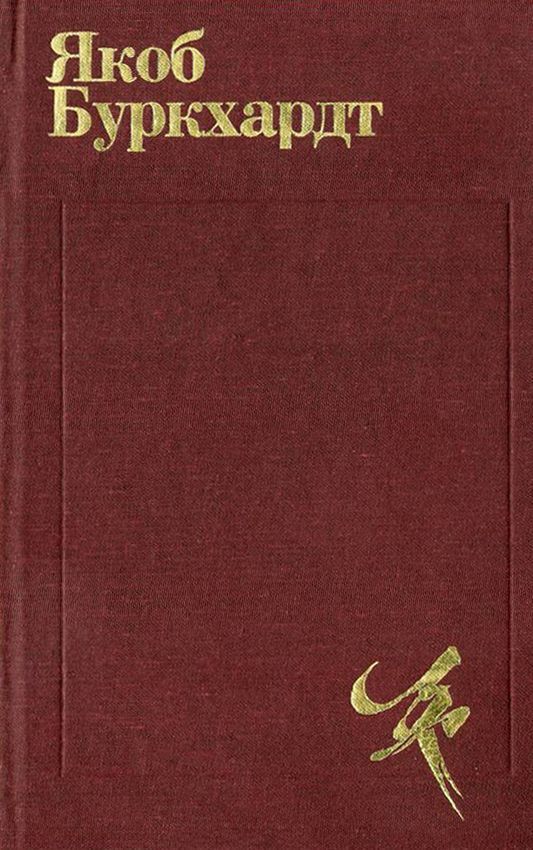Христу», уподобившись Спасителю своим добровольным принятием страданий и смерти.
Нетление мощей не всегда является необходимым условием святости. На Афоне, например, к нетлению мощей относятся с недоверием. Святитель Иоанн Златоуст призывал почитать не только прах, но и пепел, оставшийся от мучеников, то есть опять же не обязательно нетленные тела. Что касается обстоятельств процедуры канонизации святого как обязательного условия признания святости подвижника, то из всей процедуры (богослужение, составление жития, проложное чтение, внесение в святцы и т. д.) в действительности имеет значение только внесение в святцы (календари). Однако в силу того, что святцы (особенно в древности и в Средние века) составлялись зачастую неизвестно кем, отсутствовал институт контроля, то приходится неизбежно сталкиваться с тем, что за столетия в эти святцы попало огромное количество имен подвижников (особенно из синодиков различных местностей), время и место официальной канонизации которых неизвестны и невозможно сказать с уверенностью, были ли соблюдены эти процедуры. Е. Голубинский в своей работе о канонизации святых в Русской церкви был вынужден выделить целый раздел святых, о которых не известны ни время, ни факт официальной канонизации.
Таким образом, относительно безусловными остаются лишь несколько пунктов. Прежде всего чудеса от мощей и вообще все, что связано с останками подвижника, – их обретение, перенесение и т. д. Например, только обретение мощей стало поводом для создания культа упомянутой выше Параскевы Пиринемской. При этом обстоятельства обретения весьма смутны – мощи, открытые в 1610 г., считались неизвестно кому принадлежащими, но затем о том, что это мощи Параскевы, «было открыто» священнику Феофилакту и крестьянину Ефимию Федорову. Обретение мощей Гликерии Новгородской в XVI в. и чудеса от них стали главной причиной ее почитания.
В итоге следует признать, что главным источником и причиной официальной канонизации на Руси и в России было народное почитание (эта ситуация сохраняется и сейчас, что хорошо видно на примере праведного Иоанна Кронштадтского или блаженной Матроны Московской. Е. Темниковский писал, что «слава святой жизни того или другого подвижника не умирала вместе с ним; благочестивый подвижник… становился предметом народного чествования, сначала, быть может, в сравнительно незначительном районе, который с течением времени мог расширяться. Таким образом, являлся культ святого. К нему постепенно присоединялись и церковные власти, прежде всего местные, затем иногда и центральные, соответственно с тем, как широко распространялся культ святого. Присоединение церковных властей к народному культу, дававшее последнему официальное значение, не было каким-либо формальным актом в роде современной канонизации, а совершалось постепенно…». Архиепископ Михаил (Мудьюгин) добавлял, что именно в народной среде складывались тексты, прославляющие подвижников, тексты, которые «не подвергались до последнего времени церковному официальному санкционированию или утверждению».
Здесь необходимо отметить одно важное обстоятельство: феномен «народного почитания» не считался ни с указанными выше спорными обстоятельствами жизни многих святых, ни со странностями их кончины, ни с реакцией Церкви – известно, что народное почитание многих подвижников шло вразрез с официальной позицией церковных властей. Например, когда мощи преподобного Варлаама Керетского после обретения внесли в алтарь церкви и «от мощей его благоухание было видимо всем, подобно-де тому, как от росного ладана дым», представитель церковной власти иеромонах Иона сказал, что это не чудо, а «исходит от печи дым, а не благоухание», а архиепископ Варнава постановил положить мощи в кирпичный склеп под полом храма и всего лишь не возбранять поминать.
С другой стороны, параллельно шли процессы «официальной канонизации», которые нередко направляло государство, а порой и выступало организатором, а народное почитание наступало намного позже, если наступало вообще. Например, для того, чтобы преподобный Феодосий Печерский был канонизирован, игумен Киево-Печерской лавры Феоктист обратился к князю Святополку Изяславичу, «дабы вписал Феодосья в сенаник… и повеле (князь) митрополиту вписати в синодик и повеле вписывати по всем епископьям и вси епископи с радостию вписаша и поминати». То есть в синодик вписывали святых с санкции князя.
Политическим актом была и канонизация царевича Димитрия Угличского в начале XVII в. – в народе до официальной канонизации его почти не чтили. До официальной канонизации в XVII в. не почиталась и Анна Кашинская, о чем говорит тот факт, что церковь, где она была погребена, пришла в запустение, помост над ее могилой обвалился. В итоге «гроб великия княгини Анны обретеся на верху земли», но никто не позаботился о том, чтобы восстановить порядок, даже напротив – солдаты городского гарнизона клали на гроб свои шапки и даже садились на него. Канонизация в XVIII столетии благоверного князя Андрея Боголюбского была актом политическим – как известно, широкого народного почитания князя не было.
Заключение
Многие люди, рассматривающие средневековую русскую культуру, иконы, тексты, написанные малопонятным языком, памятники архитектуры, остатки быта и обихода людей того времени, могут задаться вопросом: «Какое это все имеет отношение к нашей сегодняшней жизни, ко мне лично?» Все это громадное наследие представляется музеем, в который можно, по словам Саши Черного, ходить, чтобы «за полтинник щупать вечность за бока», проводить досуг, любопытствовать, но жить в музее невозможно. Между нами и Средневековьем слишком большая пропасть, нынешняя эпоха кажется несовместимой с прошлым.
Это хорошо видно по религиозной живописи. Художники и иконописцы Средневековья и Нового времени рисовали Христа, Богоматерь, апостолов в костюмах и интерьерах или Античности, или современных живописцам эпох Средневековья, Ренессанса, барокко, галантного века Просвещения. И это не вызывало и сегодня не вызывает отторжения, не создает ощущения диссонанса. Однако представить себе картину и тем более икону с Христом в джинсах, футболке или костюме, а Богоматерью на каблуках и свитере в прозрачных офисных интерьерах невозможно. Разрыв, как кажется, уже слишком глубок, пропасть слишком широка для моста.
Однако это не должно создавать ощущения, что этот мост нельзя возвести, что вся культура началась недавно, а до этого были «темные века» (именно так чувствовало время русское дворянство в XVIII – начале XIX в.), предельно удалившиеся от нас, не имеющие к нам отношения. Настоящая культура проверяется по тому, заставляет ли она человека пересматривать отношение к себе и миру, вступать в конфликт и с собой, и с окружающими или не трогает, оставляет равнодушным, ничего не меняя в душе. Именно указанный конфликт рождает катарсис, кардинальное изменения себя, пересмотр всех, казавшихся незыблемыми, жизненных установок. Можно напомнить, что в основе разрыва с миром тысяч святых лежало несколько строчек из Писания, случайный заход в храм, впечатления от увиденной иконы, от разговора со странником.
Для постижения культуры, получения культурного опыта важно выйти за пределы обычных человеческих чувств, привычных форм восприятия действительности. Из нынешнего опыта культуры исчезло созерцание, человек видит, но не созерцает, смотрит, но взирает, слушает, но не слышит. Поэтому в современной храмовой архитектуре нет стиля, который раньше был естественным отражением своей