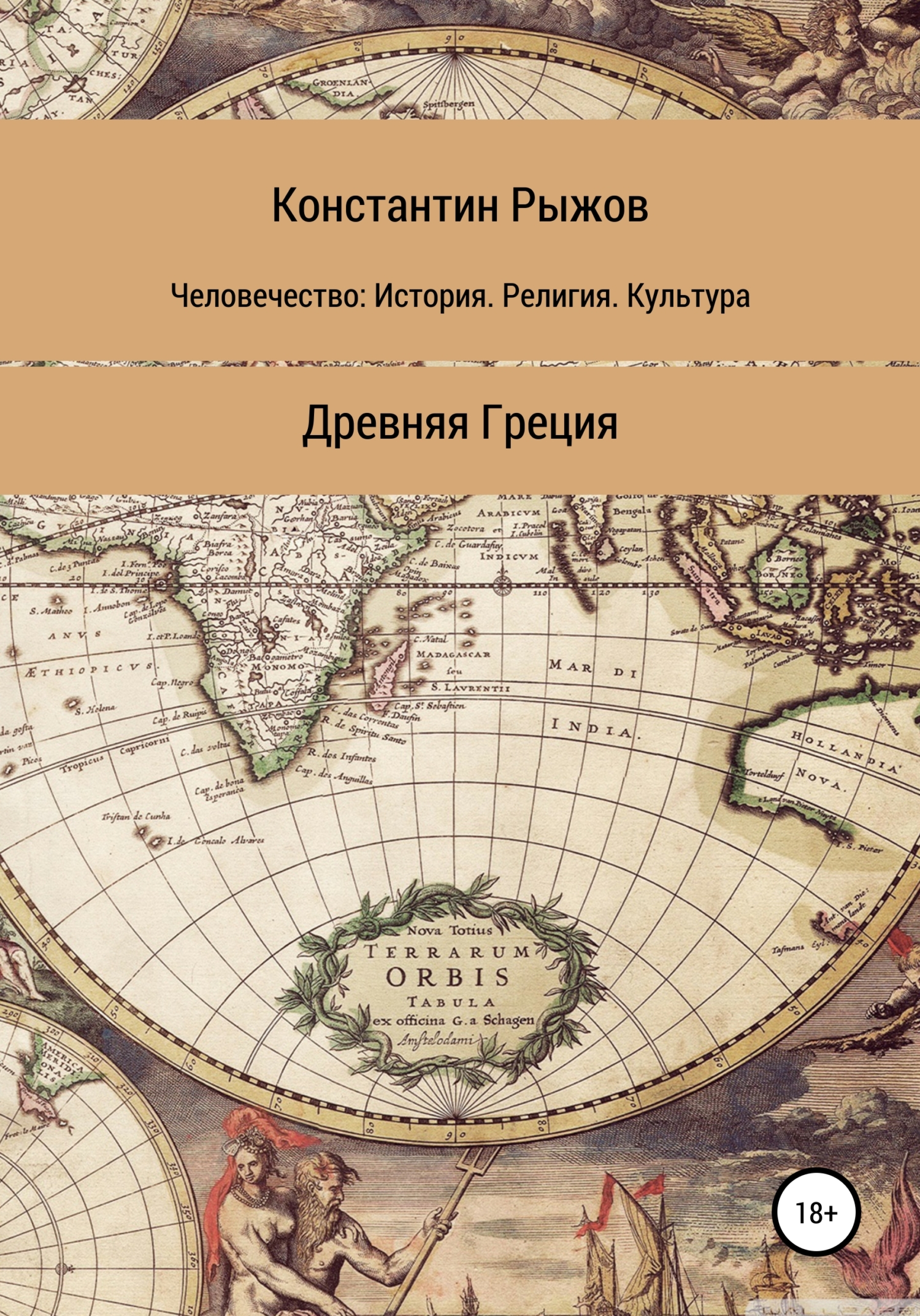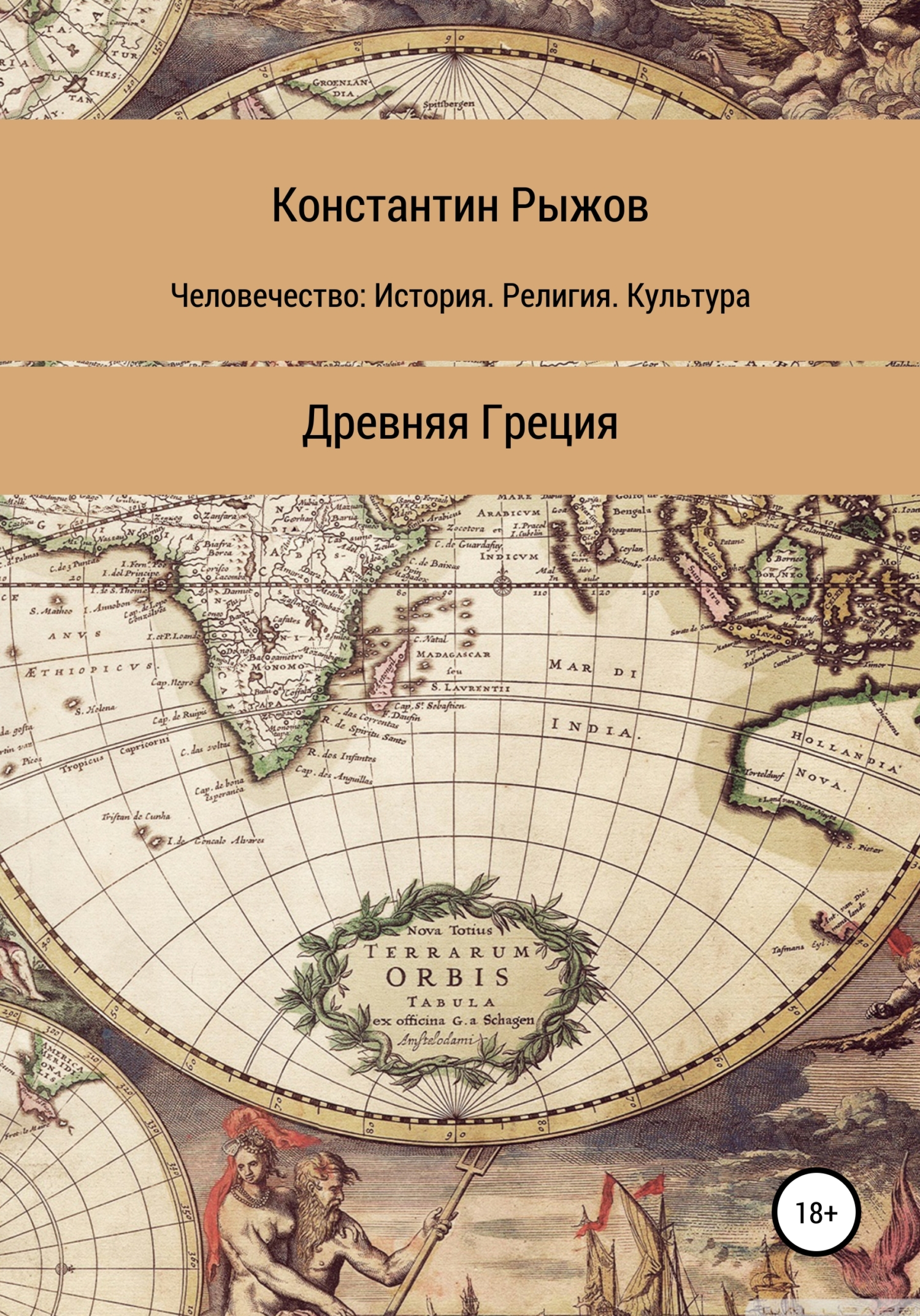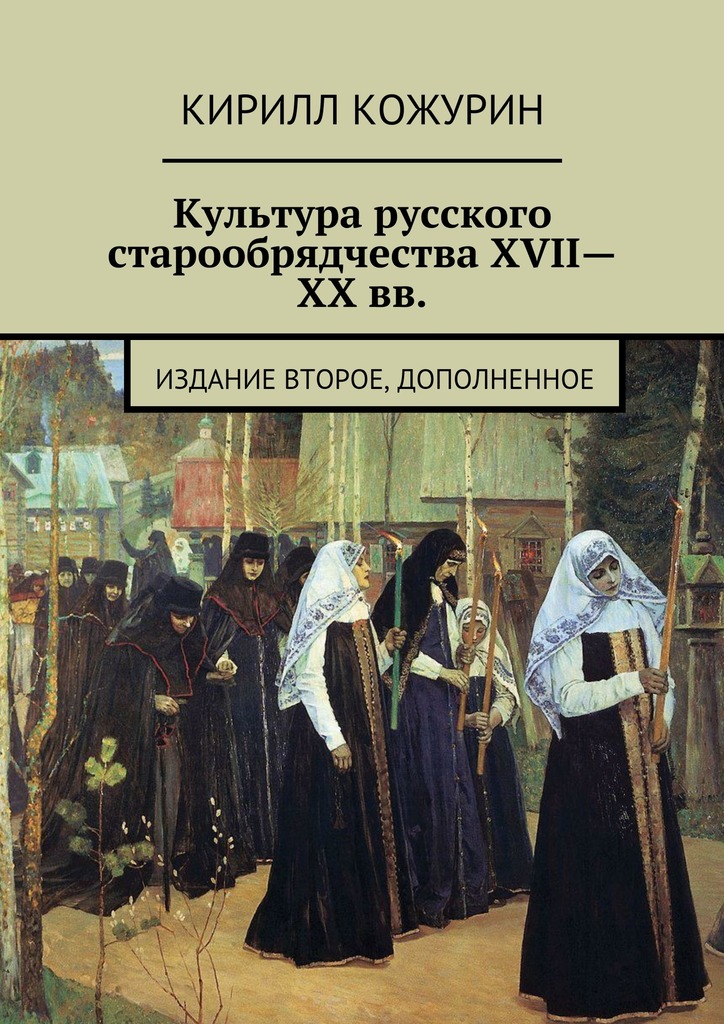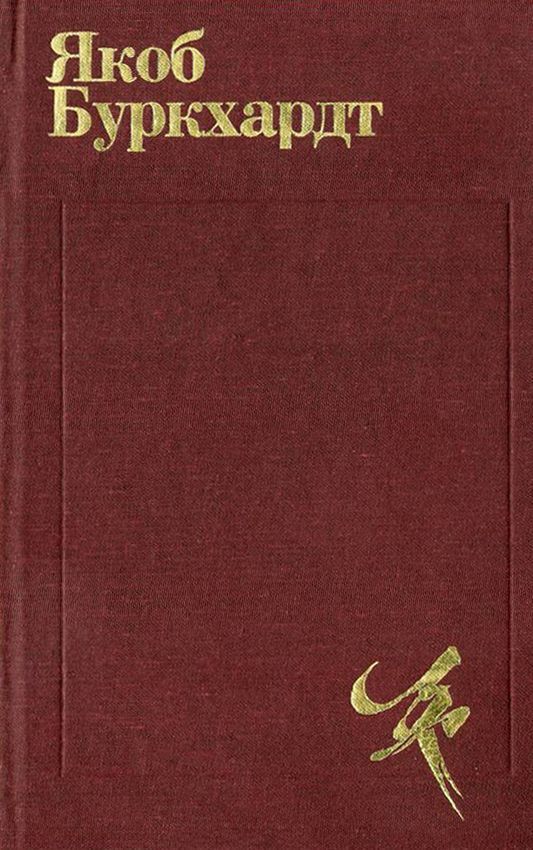эпохи. Русские храмы XII в. не спутаешь с храмами XV столетия, храмы XVII и XIX вв. различит даже непрофессионал. Время, переживаемое современниками постройки, отражалось в соотношении частей храмового пространства, декоре, убранстве, формах луковиц и крестов, цветовой гамме икон, настроении текстов – именно поэтому они так действуют на чуткую, настроенную душу. Поэтому сегодня культура не занимается «строительством человека», она занимается только его ремонтом, да и то не капитальным, а косметическим.
Мы сегодня находимся на переломе эпох. Важно обратить внимание на то, что в истории у истоков новой эпохи, всегда стоял человек, личность которого обозначала вектор развития эпохи, задавала ее координаты и масштаб. Августин Блаженный обозначил переход от человека Античности к человеку христианства, к человеку Средних веков, Декарт стоял у истоков Нового времени, Иммануил Кант встал у истоков человека Новейшего времени. Такие люди выходили не из политических структур – они выходили из пространства религии, философии, культуры. Кто встанет сегодня у истоков новой, постинформационной эпохи? На этот вопрос сегодня может ответить опять только культура и религия, только они могут сформулировать новые смыслы, отобрать из старого все то, что может пригодиться в будущем, как они в свое время отобрали все лучшее из античного наследия для Средневековья, из Средневековья для Нового времени и так далее. Именно они, построив этого нового человека, смогут выстроить взаимоотношения мира и человека, духовного и мирского, земли и неба.
Таким образом, сегодняшнее время требует перемен. Любые перемены в свою очередь требуют критерия, относительно которого станет понятным, насколько перемены радикальны, невозвратны, какова их скорость. При этом важно помнить, что опыт исторических трансформаций свидетельствует, что в ходе перемен обычно происходит воскрешение старых социальных, политических, культурных форм и явлений, осознаваемых как новизна, в результате чего происходит актуализация прошлого, усиливаются консервативные, но позитивные тенденции в социальной и политической жизни. Опыт реформ Петра I, Екатерины Великой, Александра II и других нас в этом убеждает. Именно поэтому за «реформатором» в нашей истории, как правило, идет «консерватор», возвращающий, воскрешающий прошлое как противовес реформам. Петр II пытался отыграть назад многое из того, что делал Петр Великий, жесткие порядки Павла I были ответом на свободный просвещенный абсолютизм его матери Екатерины II, время Николая I было закономерным консервативным «продолжением» эпохи реформ Александра Первого, а Алексендр III «подмораживал» Россию после «оттепели» предшественника. И так далее.
В такие моменты всегда особенную актуальность приобретает прошлое, прежде всего культура минувшего, которая и приводила людей к катарсису, полной переоценке себя. С этой культурой или борются («сбрасывают Пушкина с парохода современности»), или заново переосмысляют, актуализируют, но в любом случае культура прошлого перестает быть музеем и становится важнейшим средством трансформации настоящего. Не случайно сегодня печальной «нормой» делается «новое прочтение» Баха, Вагнера, Моцарта, Толстого, Шекспира, Гёте, реконструкции старых памятников, хотя в результате прочтения и реконструкции и те и другие нередко становятся неузнаваемы, превращаясь в собственную противоположность. «Война с памятниками», которую мы сегодня наблюдаем на постсоветском пространстве, и, наоборот, установка новых памятников героям и восстановление старых памятников в России подтверждают тезис о растущей актуальности культуры прошлого.
В этих условиях все более острой проблемой культуры становится необходимость сохранить соответствие формы и содержания культуры прошлого, точно встроить ее в настоящее, ввести в наше время то, что стало вечностью. Когда-то казалось, что лингвистика и техника не имеют друг к другу никакого отношения и могут развиваться автономно, пока не выяснилось, что лингвистика теснейшим образом связана с IT-технологиями, с языком современных кибернетических систем. Ю.М. Лотман писал, что «инженеру необходимо быть еще и искусствоведом, поскольку такого совершенного устройства, такой сложной и виртуозной кибернетической системы, обладающей богатейшими возможностями, как произведение искусства, человечество еще не создало».
А для этого необходимо не просто приобщение к культуре, но что гораздо более важно – нужно точное понимание культуры прошлого, тех сигналов и кодов, которые она содержит, новое осмысление того, что досталось нам в наследство от былых столетий, погружение в культуру. В силу того что мы сегодня сталкиваемся со все большим количеством глобальных и сложных перемен (мировая политика сегодня демонстрирует симптомы глубокой растерянности, близкой к панике, – отсюда стремление при любом вызове хвататься за оружие), культура прошлого и ее смыслы становятся все менее понятными, все более востребованы аллегории, а не явления, так как последние уже с большим трудом напрямую подходят к происходящему.
Как неизбежное и печальное следствие, возникают «посредники», «переходники» – масскульт (о нем уже говорилось в предисловии), который приспосабливает старую, классическую культуру к пониманию массовым сознанием. Все это можно видеть в матрешках, календариках, славянских шрифтах, фестивалях, воссоздающих не подлинную культуру Средневековья, а фантазии о ней обычного, неискушенного человека. Они превращают великую культуру в попсу, ширпотреб, портят вкус, уменьшают сложное до предельно простого. Во всем видно ленивое желание приобщиться к вечному и абсолютная неспособность это сделать. Духовное и эстетическое достояние великой культуры переходит в неоспоримую собственность массовой культуры. С помощью масскульта великие шедевры культуры становятся на уровень потребительского блага, и их предназначение в этом качестве только одно: быть израсходованными, потребленными, так же как и прочие блага общества потребления.
Подлинная культура заменяется выпущенной массовым тиражом целлулоидной развлекательной версией. Картины, книги и скульптуры становятся валютой, на которую мещанство, ходящее в музеи, только чтобы поудивляться и развлечься, пытается купить вечность. В масскульте смешивается все – и древность, и Средневековье, и Новое время, все становится неважно, несущественно, сиюминутно. Масскульт занят бесконечным дублированием оригналов, которые от постоянного дублирования делаются клишированными, безвкусными, выцветшими. А человек не только культуры Средневековья, но и Нового времени жил в мире, где не было повторяющихся вещей: нет никакого сомнения, что жителя Москвы или Владимира XIV в. больше всего поразили бы две одинаковые ложки или тарелки. В мире, где не повторяются предметы, где невозможно сделать два одинаковых топора или копья, иначе относятся к уникальности самого человека, чувствуют эту уникальность даже в повседневных вещах. Именно поэтому одинаковые книги, появившиеся благодаря книгопечатанию, стали большой психологической проблемой для тех, кто их печатал, и тех, кто ими пользовался, и эту проблему пришлось преодолевать.
А вот теперь необходимо возвратиться к вопросу, поставленному в самом начале: какое отношение средневековая культура имеет к современности, к современному человеку? Сможет ли она пробиться к нему сквозь толщу массовой культуры? Важно понимать, что культура Средневековья – это не музейный экспонат, не чучело некогда живого организма, это культура живая, настоящая, искренняя, культура, содержащая восторженные чувства людей, впервые узнавших и почувствовавших то, что для нас заданность. Она возвращает нам эти чувства, дает инструментарий для их выражения (сегодня в целом благодаря массовой культуре этот инструментарий очень обеднел), она дает возможность