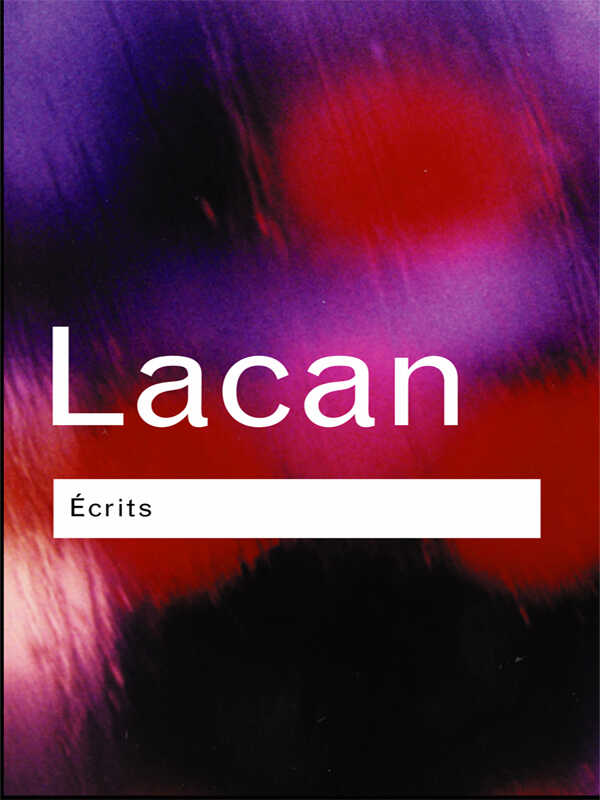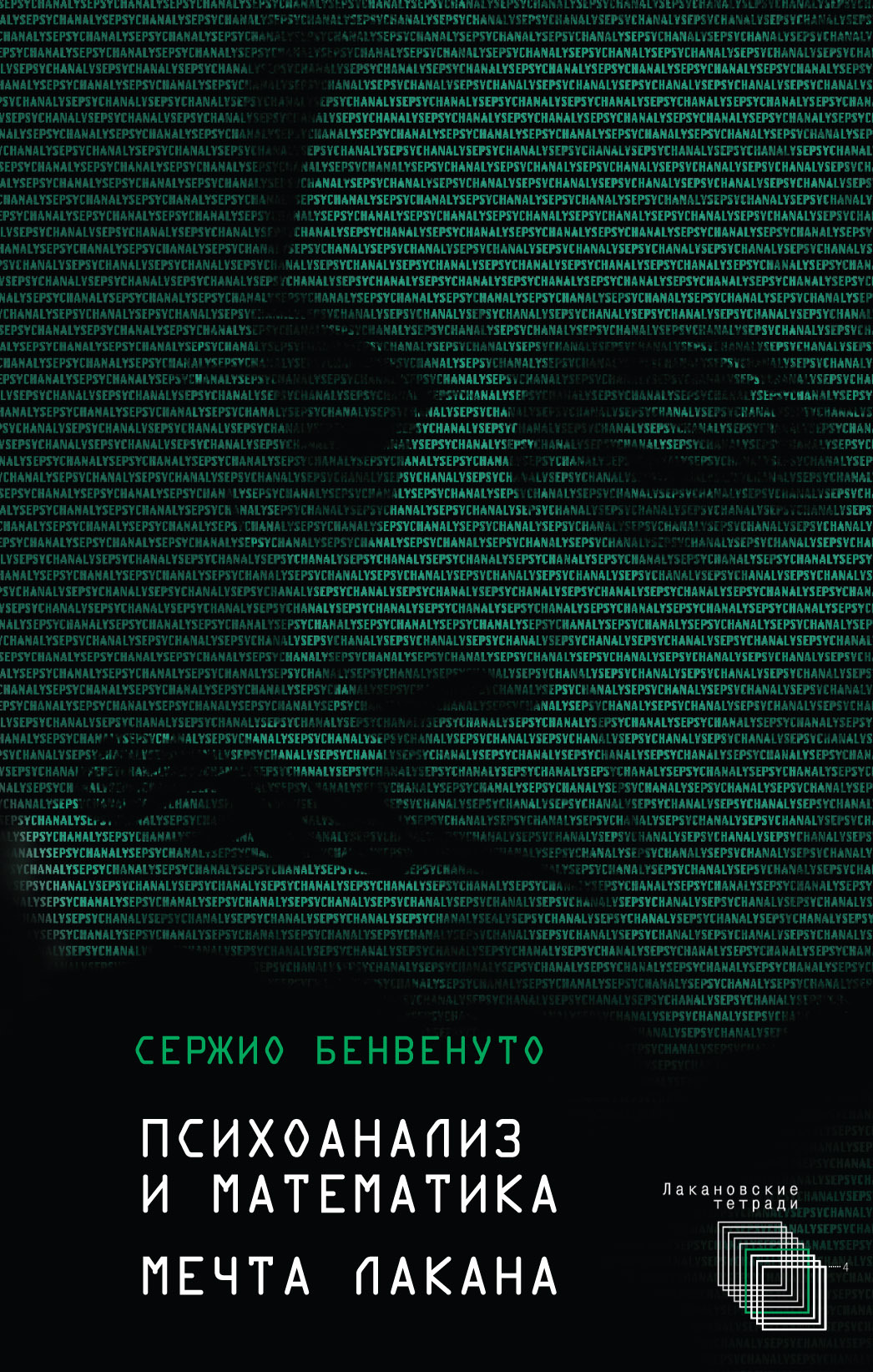счете отрицательная терапевтическая реакция эта со стороны субъекта не является сродни реакции стоической. Проявления ее приносят как самому субъекту, так и его окружению массу неприятностей. Более того, они оказываются порою настолько тягостны, что лучшим жребием для всего пришедшего в бытие может показаться в конечном итоге не родиться вовсе. Слово, которое под конец выговаривает Эдип, его μη φύναι, смысловой предел и вершина всей трагической авантюры, не только эту авантюру не упраздняет, но, напротив, увековечивает ее – увековечивает по той простой причине, что если бы не удалось Эдипу в конечном итоге это слово высказать, ему не суждено было бы стать тем героем трагедии по преимуществу, которым мы его теперь знаем. Героем этим становится он лишь постольку, поскольку в конечном счете выговаривает-таки это слово, увековечивает себя.
* * *
Итак, Фрейд показывает, что по ту сторону принципа удовольствия лежит нечто, представляющее собой, возможно, не что иное, как стремление к вечному покою смерти. Мы, однако, в собственной нашей аналитической практике столкнулись с явлением, когда отрицательная терапевтическая реакция носит специфический характер, принимая форму той неодолимой тяги к самоубийству, что дает о себе знать на последних стадиях сопротивления у субъектов, которые были в той или иной степени родителям нежеланны.
По мере того, как все яснее выговаривается в анализе то, что должно, по идее, заставить их к собственной, прожитой в качестве субъектов, истории подойти ближе, они все упорнее отказываются в эту игру играть. Более того, они хотят из нее в буквальном смысле слова выйти. Они не согласны быть тем, чем они стали, они отвергают ту означающую цепочку, в которую были допущены своей матерью лишь скрепя сердце.
Нам, аналитикам, бросается в таких случаях в глаза то самое, что налицо и в других субъектах, – присутствие желания, которое выговаривается, выговаривается не только как желание признания, но и как признание самого желания. Означающее становится при этом существенным его измерением. Чем настойчивее утверждает себя субъект с помощью означающего в качестве желающего из означающей цепочки выйти, тем безысходнее он в нее включается, тем бесповоротнес превращается он в один из входящих в эту цепочку знаков. Упразднив себя, он себя в этом знаковом качестве лишь упрочивает. И это легко объясняется – ведь именно после смерти становится субъект для других увековеченным знаком, особенно самоубийца. Именно потому и свойственна самоубийству та исполненная жути красота, из-за которой подвергается оно у людей столь суровому осуждению, – красота заразительная и ведущая порой к эпидемиям самоубийств, в реальности которых наш опыт усомниться не позволяет.
В работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд еще раз обращает наше внимание на то, что в основе всего, из чего наши отношения с субъектом складываются, лежит желание признания как таковое. Да и вообще, не сводится ли все то, что лежит у Фрейда по ту сторону принципа удовольствия, к основополагающей для субъекта связи его с цепочкой означающих?
По здравом размышлении, сама мысль прибегнуть к пресловутой инерции человеческой природы в поисках модели того, к чему жизнь, якобы, стремится, может на сегодняшний день вызвать у нас лишь улыбку. Что касается возврата к ничто, то на него расчет очень слабый. Сам же Фрейд, в маленьком отступлении, которое я попрошу вас найти в его статье «Экономические проблемы мазохизма», где темы книги «По ту сторону принципа удовольствия» поднимаются им заново, указывает на то, что даже если возврат к неодушевленной природе и можно действительно представить себе как возврат к более низкому уровню напряжения, к полному покою, ничто не доказывает при этом, что тогда, после уничтожения всего, что возникло и считается у нас жизнью, воцарится внутри полная неподвижность, что в глубине бытия не кроется боль.
Эту боль, я ее не придумал, я ее не экстраполировал – сам Фрейд говорит о ней как о том, что следует рассматривать как последний остаток связи Танатоса с Эросом. Конечно, Танатос, пользуясь моторной агрессией субъекта по отношению к окружению, находит способ высвобождения, но что-то от него остается, тем не менее, внутри субъекта – остается в форме той неотделимой от бытия боли, которая, как полагает Фрейд, связана у живого существа с самим существованием его. Но ничто не доказывает, что боль эта свойственна лишь живому – ведь и неживая природа оказалась теперь, как мы знаем, средой настолько по-своему одушевленной, бродящей, гниющей, кипящей, даже взрывоопасной, что еще недавно мы не могли себе ничего подобного и вообразить.
Зато есть факт осязаемый, который воображать не надо, и состоит он в том, что субъект, связанный определенными отношениями с означающим, способен время от времени, когда попросят его в этом означающем оформиться, ответить на эту просьбу отказом. «Нет, я не стану элементом цепочки», – может заявить он. Вот что, в конечном счете, лежит в основе. Но основа, изнанка представляет собой в данном случае ровно то же самое, что и лицо. Что, собственно, субъект делает, отказываясь платить по долговым обязательствам, которых он не давал? Он их тем продлевает, увековечивает. Его последовательные отказы лишь оживляют цепочку, и он оказывается к ней еще прочнее привязанным. Absagungzwang, вечная необходимость повторять один и тот же отказ снова и снова – вот в чем усматривает Фрейд наиболее глубокую пружину того бессознательного, что заявляет о себе симптоматическим воспроизведением.
Без всего этого трудно понять, почему означающее, едва будучи введено, немедленно получает двойное достоинство. Почему субъект чувствует, что оказался затронут означающим в своем желании? Да потому, что именно он, а не кто-то другой, оказывается воображаемым – и, разумеется, означающим – хлыстом упразднен. Субъект чувствует, что в качестве желания он упирается во что-то такое, что, закрепляя и санкционируя его, устанавливая за ним определенную ценность, одновременно его профанирует.
В мазохистском фантазме всегда есть сторона позора, унижения, профанации, указывающая в то же самое время на измерение признания и способ запретных отношений субъекта с отцовским субъектом. Это как раз и лежит в основе непризнанной субъектом фазы фантазма.
Процесс идентификации. Женская гомосексуальность
Теперь мне хотелось бы остановиться на опыте нашей работы со случаями, когда идентификация субъектов определенного типа с тем, что можно назвать их правильным, удовлетворительным образцом, пусть даже временно и частично, не происходит.
Нам придется выбрать какой-то определенный случай. Возьмем случай женщин, у которых развивается так называемый комплекс мужественности, Masculinity-Complex, который связывают обыкновенно с существованием фаллической фазы.
Есть ли здесь что-то, связанное с инстинктами? Не имеем ли мы здесь дело со сбоем в созревании инстинкта – сбоем, ответственность за который несет уже само существование клитора,