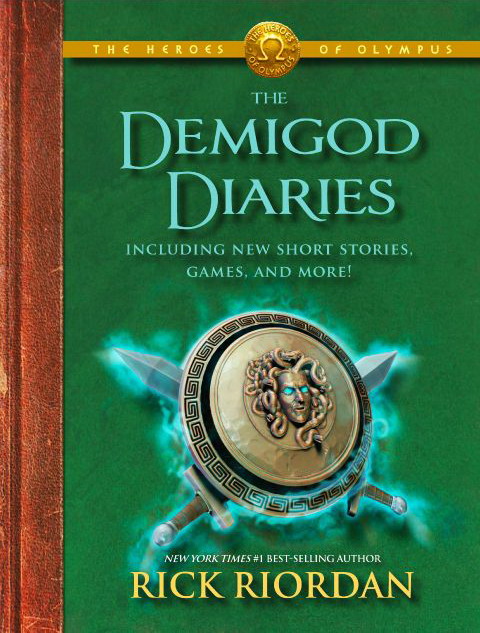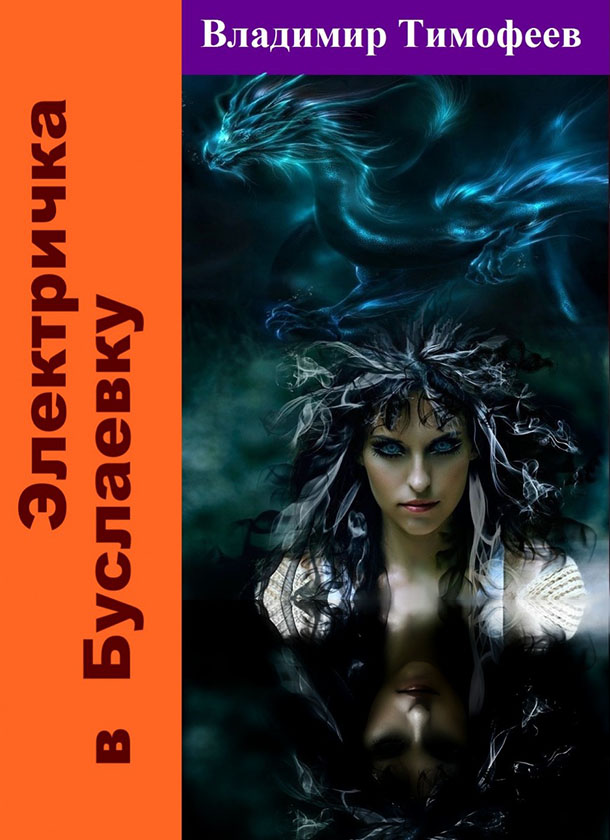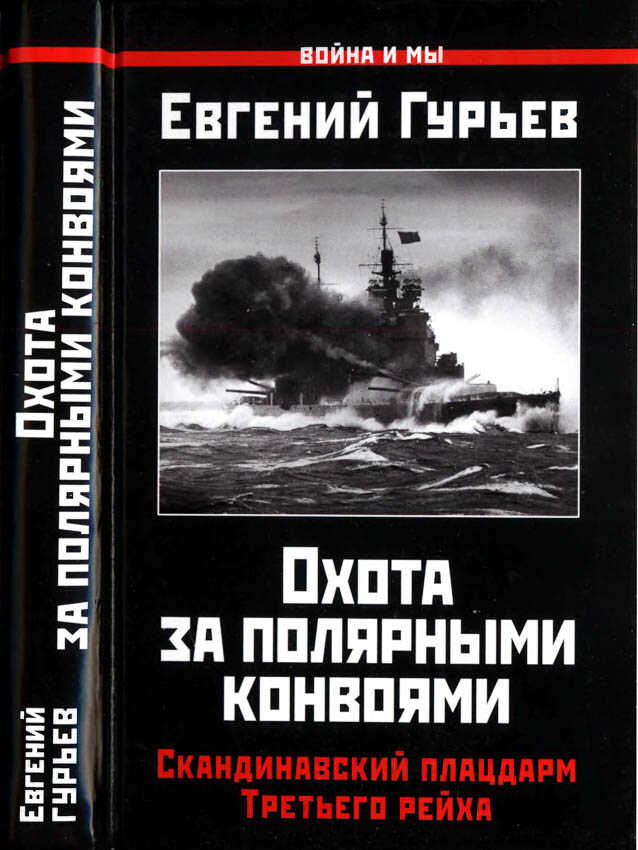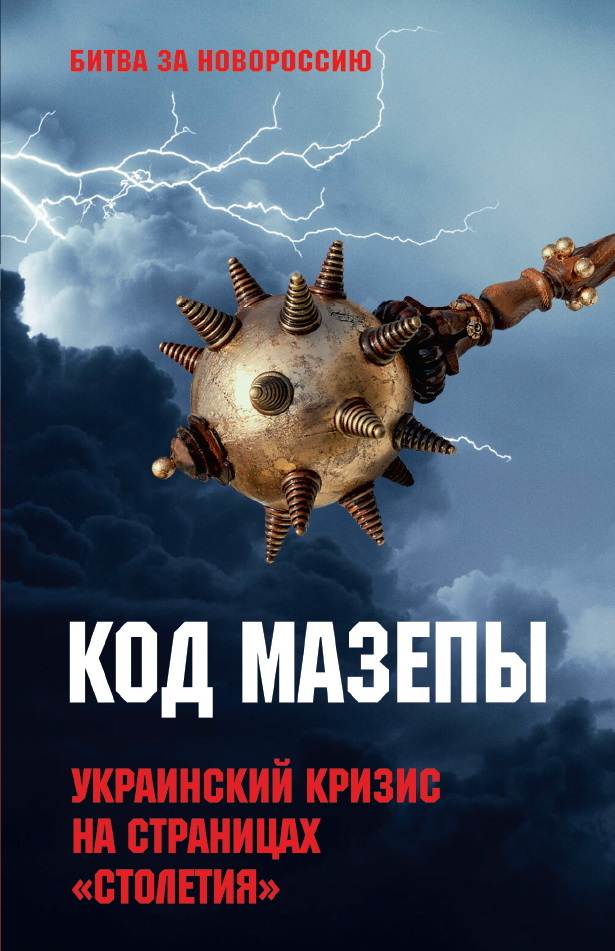На следующий день на свою первую прогулку Милан Недич вышел с племянником Станиславом Краковым. Первое, что они увидели, были трупы повешенных на фонарных столбах людей, – в центре города, над лужами крови. Увиденное оказало гнетущее впечатление на престарелого генерала, и без того раздавленного горем военного поражения, гибелью сына и его семьи. Вскоре (18 августа) к М. Недичу вместе с С. Краковым зашел Д. Льотич, который первым и обратился к генералу с идеей о формировании правительства народного спасения. С. Краков вспоминал, что в его присутствии М. Недич с возмущением отверг это предложение «брата Мити», сказав «… пусть политики расхлебывают то, что они заварили», и, напомнив, что у него не было «болезненных амбиций быть премьером и в мирное время, не говоря уже о днях оккупации»[90]. Однако через десять дней (28 августа) газеты уже опубликовали сообщение о том, что «по просьбе министра-комиссара г-на Ачимовича военный комендант Сербии дал генералу Недичу мандат на формирование сербского правительства»[91]. В следующий раз С. Краков посетил своего дядю в его премьерском кабинете, размещенном в кабинете бывшего помощника министра иностранных дел. Генерал М. Недич рассказал племяннику о причинах, побудивших его принять это решение. После визита Д. Льотича к М. Недичу приходили и сам М. Ачимович, и многочисленные представители сербской элиты из числа подписавших «Призыв к сербскому народу», однако генерал последовательно отвергал их просьбы встать во главе правительства «твердой руки» для ликвидации начавшегося восстания и прекращения немецких карательных мер (расстрел 100 заложников за одного убитого солдата).
Однако ситуация изменилась после того, как 25 августа 1941 г. М. Недича вызвал к себе военный комендант Сербии. Назначенный на это место менее месяца назад (28 июня) генерал Генрих Данкельман обратился к М. Недичу с короткой, но убедительной речью. Данкельман указал на то, что рейх стремится сконцентрировать все свои силы на Восточном фронте. В то же время соседние с Сербией лояльные немцам народы (хорваты, болгары, албанцы, венгры) в эту борьбу не вовлечены или вовлечены недостаточно. В связи с этим Данкельман показал М. Недичу карту, на которой территория Сербии была разделена на соответствующие сектора: вся восточная часть Сербии – в болгарском, южная в албанском, северная и центральная в венгерском, западная в хорватском. Немцы сочли необходимым сохранить за собой в качестве штаб-квартиры оккупационного аппарата лишь Белград, который предстояло очистить от нелояльных жителей и переименовать в Принц-Еуген-штат (Prinzeugenstadt), как значилось на карте Г. Данкельмана. Идея о том, что погром сербов, происходивший в оккупированных частях Югославии, разразится на всей территории Сербии, оказалась весомым аргументом для генерала Недича. В результате 29 августа 1941 г. было сформировано правительство Сербии, в котором М. Ачимович сохранил портфель министра внутренних дел, но бразды правления перешли к генералу Недичу.
Тем временем ситуация в Центральной Сербии обострилась до предела, к акциям коммунистов присоединились и четники. В монастыре Троноша в Западной Сербии состоялись переговоры местных полевых командиров, представителей Ядарского четнического отряда и Подринского партизанского отряда. В итоге было осуществлено совместное нападение на местный районный центр – г. Лозницу, в котором была размещена 11-я рота 738-го пехотного полка 718-й пехотной дивизии. В бою за центр города погибли командир четников подполковник Веселин Мисита и еще несколько четников, но, несмотря на это, город 31 августа 1941 г. был освобожден от немцев, а в монастыре Троноша был организован лагерь для 93 немецких военнопленных. Вслед за этим начались совместные нападения четников и партизан на немецкие гарнизоны в г. Баня-Ковыляче, в районе рудника Заяча, г. Крупни и с. Завлака. Был блокирован Шабац – главный город Мачвы, самой богатой и плодородной области недичевской Сербии, в 84 км от Белграда. На освобожденной территории (крупнейшие города – Лозница и Баня-Ковыляча) формировались единые народно-освободительные комитеты, в которые входили представители партизан и четников, пытавшиеся достичь компромисса. Например, вместо обычной военной присяги королю представители партизан и четников согласились присягать народу, но перед священником[92]. Немцам пришлось эвакуировать свои войска из среднего Подринья, а повстанцы начали расширять зону своих активных действий, освободив находившиеся в нескольких десятках километров от Белграда города Лайковац, Боговадже, Минице, Арилье. В начале сентября прошел ряд встреч между руководством монархического и коммунистического движения Сопротивления, кульминацией которых стали переговоры Д. Михаилович – И.Б. Тито, состоявшиеся 19 сентября 1941 г. в с. Струганик, в доме Александра Мишича, сына самого известного (к тому времени покойного) сербского военачальника Первой мировой войны. Мир между партизанами и четниками длился до конца октября 1941 г.[93]
Д. Льотич и М. Недич, а также их окружение, всеми мерами поддерживали немецкий «новый порядок» на Балканах
Численность войск, которыми располагали немцы, была явно недостаточна. Попытка применить авиацию против повстанцев в Крупне и Бане-Ковыляче не дала результатов. Генерал Лист, командующий немецкими войсками на территории Юго-Востока (т. е. на Балканах), 8 сентября 1941 г. обратился к Верховному командованию вермахта с просьбой о подкреплении. В то же время немцы использовали те местные ресурсы, которыми располагали. Отдельные сербские полицейские участки и станции жандармерии не были полезными в борьбе против массового народного выступления. Поэтому было принято решение о формировании отрядов самообороны из «надежных элементов» – фольксдойчеров и белоэмигрантов. Вследствие разрастания партизанского восстания, к которому примкнули и четники, и просто возбужденные ненавистью к оккупантам сербские народные массы, ситуация в сербской провинции стала крайне сложной не только для немцев, но и для лояльных им элементов, в том числе – русских эмигрантов. Среди первых жертв русской эмиграции, павших от руки сербских повстанцев, были: Максим Тимофеевич Каледин, есаул Кубанского казачьего войска, Юстин Харитонович Мельник, младший унтер-офицер, Константин Николаевич Шабельский, ротмистр, Севастьян Степанович Гордиенко, поручик[94]. В результате, в провинции стали самоинициативно возникать отряды самообороны русских эмигрантов, формировавшиеся из лиц, умевших держать в руках оружие и имевших богатый боевой опыт. Типичным примером этого стали события в Западной Сербии. «…Проживавшие в Шабаце казаки после убийства коммунистами пяти казаков с семьями сами взялись за оружие и, сформировав две сотни, под командой сотника Иконникова, отбивались вместе с немецкими частями от наступавших и окружавших их коммунистов»[95]. Отряд под командованием Павла Иконникова включал 124 казаков и действовал до 12 октября 1941 г. При этом, объективности ради, стоит сказать, что нападение на Шабац велось совместными силами партизан и четников, которым и противостояла вместе с немцами сотня П. Иконникова. Кроме этих внутренних резервов, немцы привлекли для борьбы с повстанцами в пограничной с Хорватией Мачве усташей, чьи