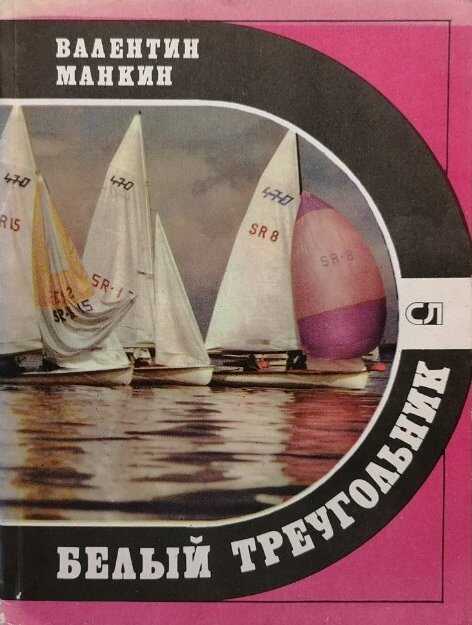себя на том, что начинает его ненавидеть. Сперва все было как-то неясно и неконкретно, сперва было просто раздражение.
Все началось с того, что Кузьмич, однажды выслушав реплику жены по поводу Петрова, внутренне согласился с ней. И даже подумал: «Ну для чего вот такой Петров живет? Хорошие люди под машины попадают, а этого ни один черт не возьмет». Потом вдруг и вслух высказался:
— Во!.. Идет как на работу. — Высказался и понял, что повторил за женой, и даже оглянулся на нее с опаской, но та мыла посуду и ничего такого вроде не заметила.
Потом Кузьмич несколько дней наблюдал молча, хотя прямо язык чесался поговорить о Петрове. И будь на месте жены кто другой, может, и не утерпел бы, но перед женщиной осуждать мужика, пусть даже самого последнего, он не находил возможным. Хотя, может быть, и зря, потому что внутреннее его раздражение, не находя никакого выхода, копилось и бродило.
Через некоторое время при появлении Петрова у Кузьмича начинали играть желваки, учащалось дыхание, а непослушные руки ломали папиросы. Он вдруг стал нервно подрагивать ногой, крякать в сердцах и плеваться на пол. Все в этом Петрове бесило Кузьмича: и его нелепая фигура, и походка, и этот проклятый непонятный палец. И чем непонятнее он становился, тем больше злил.
Однажды Петров появился, неся свой палец перед собой в забинтованном виде, словно какую-то реликвию, и в тот день в компании речь шла, очевидно, только о пальце, потому что все смотрели на него не отрываясь, а некоторые благоговейно дотрагивались.
Кузьмич почувствовал такой сильный прилив злобы, что в страхе убрался с кухни. «Что это со мной? — подумал он. — Этак я, как старушка какая на пенсии, скоро начну обсуждать каждого проходящего». И он решил больше не смотреть в окно. И как только он это решил, так окно стало притягивать его взгляды как магнит. Где бы он ни находился, куда бы ни шел, голова, помимо его воли, поворачивалась к окну, а глаза, как нарочно, тут же натыкались на Петрова.
Кузьмич начал придумывать себе занятия по дому. Перечинил все табуретки, которые, в общем-то, в ремонте не нуждались. «Ничего, ничего, — бурчал он под недоуменными взглядами жены, — крепче будут. Запас кармана не дерет…» После табуреток он решил вдруг выкладывать стенки в ванной кафелем. Но и на это, включая доставание материала, ушло так мало времени, что он и не заметил, как снова очутился перед окном на кухне.
А за окном был все тот же Петров. Тогда Кузьмич велел жене одеваться, а сам сел за телефон.
Началось хождение по гостям. Однако и это его мало развлекло. У самых близких и веселых приятелей, за самым праздничным столом Кузьмич сидел молчаливый и задумчивый, и мысли его были далеко…
Ведь что больше всего бесит — его рожа! С утра у него глаза горят так, будто он жаждет не пива, а крови. А насосется, как паук, так счастливее его и человека нет на свете. И ведь ни разу не напился до поросячьего визга. Все время спокойный, головы не опустит. А главное, все время будто по делу идет. Будто его ждет кто-то, будто в нем нуждаются… А кому ты нужен, обалдуй?.. Дома небось одни пустые бутылки, да и тех, наверное, нет — сдал давно. Вытрезвитель, вот что тебя ждет. Это уж точно. Тут Кузьмич спохватывался, что ругается про себя, совсем по-бабьи, ему становилось совестно, и он продолжал вспоминать про себя, молча.
Перед его внутренним взором неутомимо двигался Петров, поблескивая угольно-черными глазами, будто подсвеченными изнутри каким-то неугасимым огнем. И сколько бы раз он ни прошел мимо окон, блеск этот не гас. И оттого лицо его несло на себе печать некоторой, грубо говоря, одухотворенности. Именно это и раздражало Кузьмича больше всего.
Галина Федоровна шумно пила чай, и лоб ее начинал тихо рдеть и лосниться. Старинная приятельница подкладывала ей варенья, ее муж косил глазом в телевизор и следил, чтобы не пустели рюмки, а Кузьмич машинально опрокидывал свою, кивая при этом хозяину, ковырял разок-другой вилкой в салате, и снова глаза его затуманивались. И смутные мысли и чувства шевелились в нем.
Вспоминалась почему-то молодость, когда он с таким же горящим, как у Петрова, взглядом летел на свидание с Галиной Федоровной, то есть с Галочкой. Или как они вместе, озабоченные и серьезные, ходили покупать свой первый чайник, или как шел он с видом победителя после присвоения ему пятого разряда, или как томился под окнами роддома, да и мало ли что вспоминалось в такие минуты. Но у него, у Кузьмича, во всем был смысл. Он ведь стремился лучше работать и лучше жить, а к чему этот проклятый алкоголик стремится? Почему таким завидным пламенем горят его глаза?
Наконец он махнул рукой и перестал сдерживаться. Теперь он специально садился к окну и ревниво наблюдал за своим врагом, чтобы лишний раз уличить его в пустом, никчемном мельтешении. Чтобы первым заметить, как потускнеет, погаснет его взгляд, как походка утратит стремительность. Теперь он, не скрывая, следил за каждым его шагом. Галина Федоровна, подметив в нем эту перемену, как-то заметила:
— И дался тебе этот пропойца… Что-то ты уж больно дергаешься, Кузьмич. Так бы в окно и вылез…
И тут Кузьмича прорвало:
— Но ведь так не бывает… Ведь врет он все… Ведь он вышагивает, а у самого небось на душе кошки скребут. Я ведь знаю, он из последних сил держится. Вон стоит, руками машет, а дома пусто и страшно. Я его, паразита, насквозь вижу. Тоже мне, герой. Ты смотри, смотри, мать, ведь ходит-то, смотрит, будто дело делает… Вранье все это, финт.
— Да уж конечно, — машинально поддакнула Галина Федоровна и ушла за чем-то в комнату.
«Да что же я, в самом деле, на него? — подумал Кузьмич. — Жалко ведь. Пропадает парень, а ничего не сделаешь. И видать, парень-то неглупый. Вон как за ним увиваются. За дураком не пошли бы… Да… Жалко парня. И ведь никто не скажет. Дружки, что ему в рот смотрят, разве чего скажут? Он небось себя героем мнит среди них… А сейчас, говорят, больницы целые есть… Говорят, помогают. Семьи-то у него наверняка нет. Семья, как ни вертись, а все-таки тормоз. Один скандал, другой — и одумаешься. Нет, не похоже, чтоб он был женат. Женатые, особенно пьющие, они теперь пришибленные какие-то, а он ходит гоголем».
— Э-эх, вот так люди и пропадают, — сказал в сердцах Кузьмич и задвигал консервной банкой,