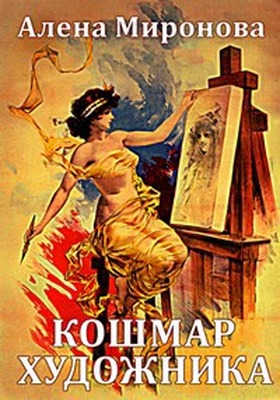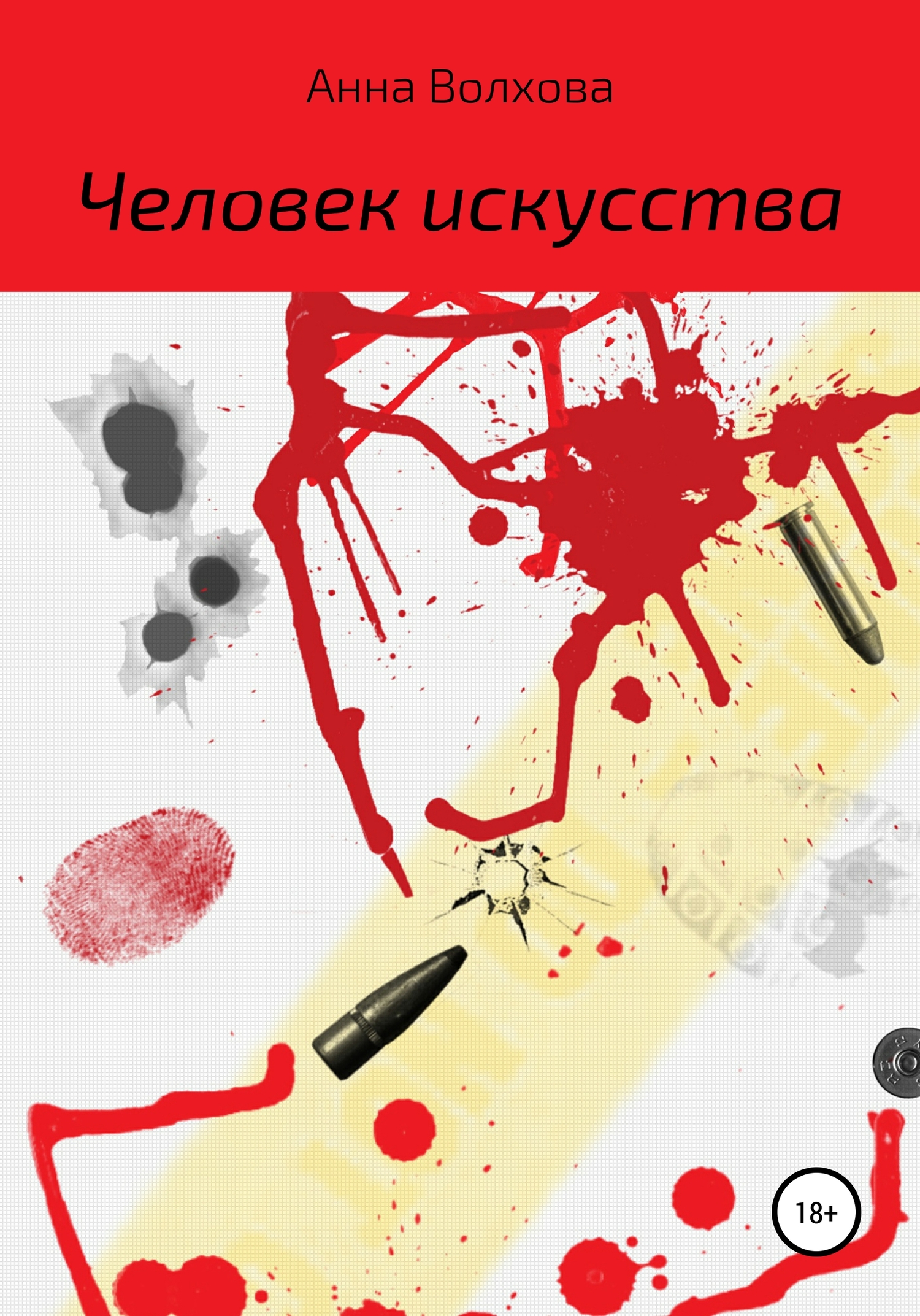Такое называют «сбой в матрице», кажется.
– Мы едем на гонки на мифический остров, а там до Шотландии рукой подать. Или куда ты там хотел? Косаток посмотреть… или дельфинов там.
Я посмотрел на Лану, она дернула плечами, будто ну что, пусть думает как хочет. Типа, может, он вообще придурок.
– У нас в Литве Рупа… он участвует в гонках на мифическом острове. Слышал про такое?
– Ну слышал, – сказал я. Хотя на самом деле что-то там просто погуглил про какие-то там гонки на каком-то там острове.
Это современный рыцарский турнир, ты представляешь? Каждый год гибнет куча людей. Такой вызов жизни, скорости и смерти.
– Ты бы так смог, – спросил Костя, – или уже на старте бы обоссался? Кстати, совсем забыл спросить, а ты, вообще, байк водишь?
Леннон и мотоциклы
Я помню запах масла. Темного, тягучего, который остается на руках, когда смазываешь цепь. Мы с отцом в гаражах за домом на Неманском. На двери весит радио, и из хриплого динамика, который теряет частоты, кричит Цой:
Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне,
Нарисуй мне портреты погибших на этом пути.
Покажи мне того, кто выжил один из полка,
Но кто-то должен стать дверью,
А кто-то замком, а кто-то ключом от замка.
Земля. Небо.
Между Землей и Небом – война!
Отец затягивается сигаретой. Щурится. Смотрит на землю. Он зависает. Потом будто что-то переключается в его голове, и он снова здесь. Протягивает мне бычок. Я затягиваюсь. И сразу получаю подзатыльник.
– Подержи, – говорит он.
– А-а-а… – отвечаю, типа я тугодум.
И он наклоняется к двигателю и что-то там крутит. Просит дать один ключ, потом второй. Бычок обжигает мне пальцы, и я выкидываю его.
– Садись, – говорит он.
И я сажусь. Он говорит мне, как выжимать сцепление и заводить мотор. Я в точности повторяю все действия и чувствую, как подо мной будто оживает дикий зверь. Он тарахтит, подскакивает и хочет нестись в неизвестность. Мы выводим мотик на дорогу и точно так же, как когда-то с велосипедом, отец подталкивает меня, потому что мот заводится только с ходу. И я выжимаю газ. И через секунду еду сквозь яблоневые сады. Чувствую скорость, чувствую, как вхожу в повороты. Слегка нажимаю ручку газа, и будто новая сила, нечто большее, чем ты, несет тебя вперед. Ты представляешь, в четырнадцать лет я выехал на свою «Аллею „Дорога жизни“» и гнал на нашей «яве» по Строгину, подпрыгивая на каждой кочке на зависть всем пацанам и Альме, дворовой овчарке, пытавшейся ухватить за штанину мою радость.
И где-то на периферии моего сознания звучит Цой:
Но кто-то должен стать дверью,
А кто-то замком, а кто-то ключом от замка.
Земля. Небо.
Между Землей и Небом – война!
И здесь я понимаю, что я вообще ничего не знаю про своего отца. В смысле, что он воевал… Ни мать, ни он сам никогда не говорили об этом. Знаешь, это как в тех голливудских фильмах, когда на тебя наехали бандиты из соседнего квартала и ты узнаешь, что твой папа – любитель поливать цветочки в домашнем саду – на самом деле спецназовец из каких-то там-то подразделений.
– Есть вещи, сынок, которых лучше не видеть, не слышать и не рассказывать, – говорил он.
И есть вещи, которые теперь предстоит выяснить мне. Только я боюсь, что многого уже не узнаю, папа. Ты уже ничего не расскажешь, а мать наглухо заперлась в новом мире с новой семьей, из которого выходит, только чтобы пытаться меня контролировать. А я говорю: идите на хер, дорогие родители!
Часть 3
В дороге
Я свалил из Москвы
В мае две тысячи четырнадцатого.
Прямо с похорон отца
Покинул дом.
В начале лета
Решил отправиться
Искать мечту где-то.
О забытых китах
Я не вспоминал давно,
Пока с гробом отца
Не столкнулся лицо
В лицо.
Отец, где ты был,
Дай ответ.
Почему в воспоминаниях
О днях, когда я рос,
Тебя совсем нет?
И сказал отец
Прямо из гроба мне:
«Иди и плыви туда, где
Море с небом сливаются
В синеве,
Где киты тебя зовут
Из серых дней,
Словно родители —
Своих брошенных детей!
Дорога на Вильнюс
Вместе с Ланой я трясся в вонючей техничке и смотрел на свои старые советские кроссовки. Лана сидела напротив. И я впал в какое-то молчаливое исступление. Хотел ее спросить, а что, собственно, значит эта история с Костей, который обнимает ее за талию? И что с нашими «Электрическими китами»? Но я как будто сжевал свои носки…
– Ну чего ты смотришь, Леннон? Ты что, не рад? – спрашивает она. – Мы же это сделали. Понимаешь? Вырвались из своих коконов, и теперь впереди только свобода и приключения. Слышишь? – И чтобы то ли успокоить меня, то ли намекнуть на вчерашний день, добавляет: – Мы же «Электрические киты»! – И делает руками такое мимимишное сердечко и подносит к своему:
Тук-тук,
Тук-тук,
слышишь моей любви стук?
А я молчу и мычу, будто я умственно отсталый. Но поверь, в ту минуту я именно таким и был. Потому что логичней было бы сказать типа: «Лана, давай выясним все прямо здесь и сейчас и, может, тогда избежим трагедии, которая всех нас ждет в ближайшем будущем. Ты же знаешь, что все проблемы людей из-за того, что они друг друга не слышат. Зачем нам повторять их ошибки? Мы же с тобой другие. И наши отношения. И мы еще окажемся на Северном полюсе в вязаных шапочках, цветных пуховиках с двумя милыми детишками?»
Но нет, блин, я сижу и жую метафорические носки. Хочу вроде сказать все это, но получается какое-то мычание.
И Лана смотрит на меня, улыбается, будто я не мычу, а это у меня такая смешная песня кита.
Но ок, давай по порядку. Я остановился на моменте, когда мы после ночи любви проснулись в светлой комнате Ланы в Минске, появился Костик, этот белорусский Хавьер Бардем. Верно?
– Да, именно так, – вздыхает Лана, – я понимаю. Ты же не из-за