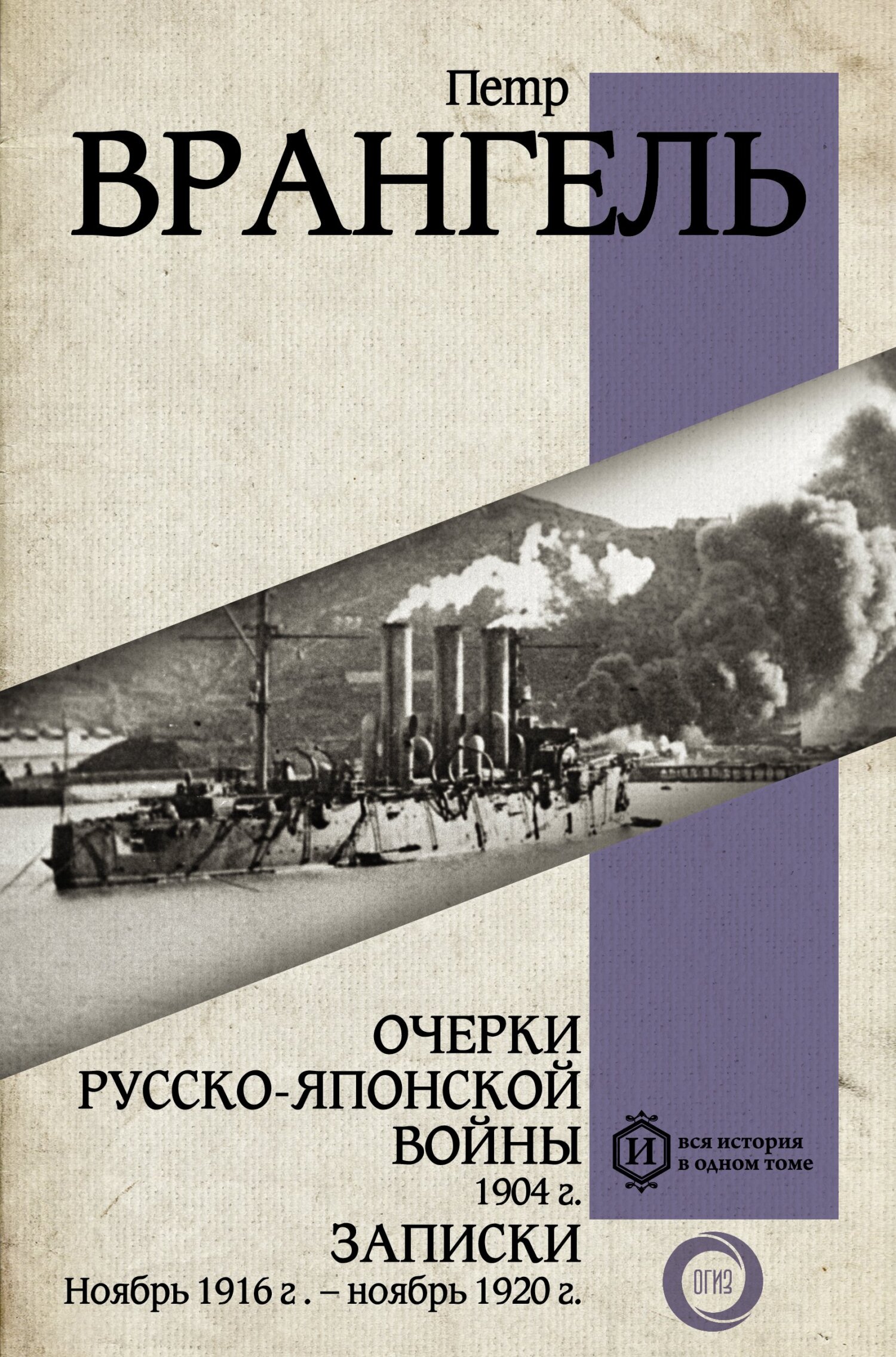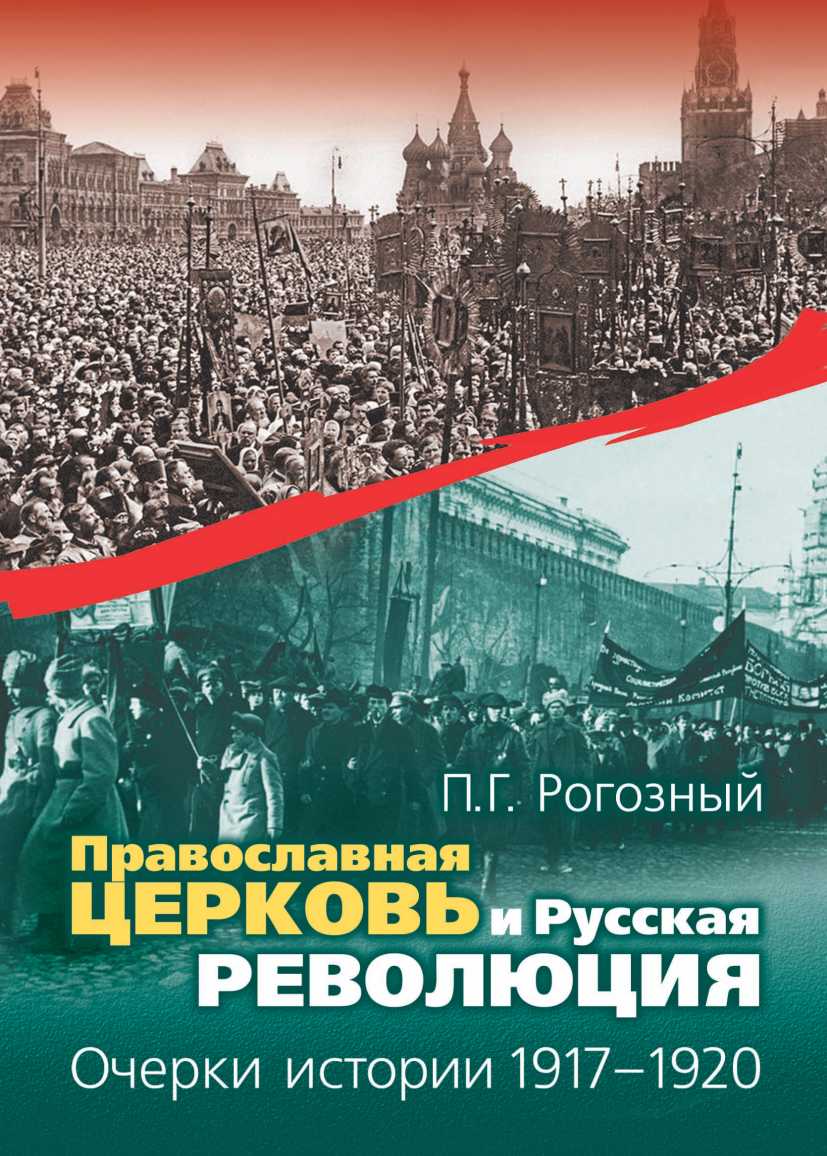вон плохую шпионскую службу большевиков в тот момент, сведения о переговорах Козакова с союзными посольствами, не знаю по чьей вине, дошли до большевиков, они его арестовали и посадили в тюрьму. Надо сказать, что к этому времени наша статистика арестов была достаточно велика. Однажды был арестован ЦК Союза союзов служащих в правительственных учреждениях, правда, не в полном составе (во время моего непродолжительного отъезда из Петрограда с 22 ноября по 6 декабря).
Из наших чиновников был арестован Ф.Ф. Новомейский, которого мы освободили за 5 тыс. руб. через посредство одного матроса-полуинтеллигента. Впоследствии он часто нам помогал, так как принадлежал к левым эсерам, тогда находившимся в силе. По-видимому, матрос этот денег не брал, но страдал одной слабостью — писал стишки, и мы устраивали чтение его произведений в дамском обществе, что ему весьма льстило. Кроме того, как я уже писал, отправлялась делегация курьеров министерства, заявлявших, что, мол, такой-то всегда прекрасно относился к «низшему персоналу» и «демократ по убеждению». Впоследствии Новомейский и его симпатичная жена из грузинской княжеской фамилии специализировались в освобождении через упомянутого матроса наших арестованных, и дело шло затем по трафарету.
Я сам присутствовал на вечерах, устраивавшихся в честь матроса. Одна из подруг жены Новомейского — бывшая смольнянка Маковская дирижировала этими вечерами, где кавказское вино и стихи, а также дамское общество подкупали наших противников и при существовавшем хаосе избавляли наших коллег от очень серьёзной опасности. Требовалось большое самообладание, чтобы не расхохотаться и не обидеть таким образом нашего приятеля-матроса, потому что вирши были прескверные и самого дурного тона. Но, само собой разумеется, подобного рода освобождения и подкупы были возможны лишь в тех случаях, когда дело не имело слишком серьёзного характера.
Арест Г.А. Козакова, крупного дипломата, по такому обвинению, как внешний заём для субсидирования саботажного движения, не мог быть отнесён к безобидным делам, все наши обычные уловки оказались бесполезными, и освобождение через Новомейского и его магического матроса не могло состояться. Большевики не только арестовали Козакова, но и собирались устроить судебный процесс, чтобы, как и предсказывал Коростовец, оклеветать всё саботажное движение. Троцкий распорядился уведомить союзные посольства, что малейшая финансовая помощь с их стороны бастующим чиновникам будет сочтена «вмешательством во внутренние дела России» и будет иметь самые большие практические последствия для отношений советской России с союзными державами.
Эта угроза, сопровождавшая арест Козакова, произвела тогда самое сильное впечатление на союзников. Они сообщили нам, бастующим чиновникам, что при всём их сочувствии нашему делу не могут открыто вмешиваться в нашу борьбу с большевиками и субсидия, хотя бы и в самых скромных размерах, совершенно исключается. При этом в частных разговорах поверенный в делах великобританского посольства Линдли, наш главный посредник в сношениях с союзниками, сказал Урусову, что финансовая помощь исключена даже в скрытой и тайной форме, так как арест Козакова показывает, что тайну в таком деле соблюсти невозможно.
Нам необходимо было, конечно, как можно скорее освободить Козакова не только из чувства дружеской солидарности, но и для того, чтобы замять дело в самом начале и не допустить громкого процесса, который мог бы подорвать антибольшевистское движение в самом корне из-за попытки его иностранного финансирования. Испробовав безуспешно наши прежние пути освобождения арестованных, мы обратились к Б.Э. Нольде, который вместе с Н.П. Юдиным, помощником Козакова по Дальневосточному отделу, отправился к Чичерину, ставшему тогда помощником комиссара по иностранным делам (комиссаром был Троцкий).
Как нам рассказывали наши делегаты, Нольде и Юдин встретили Чичерина в министерстве на лестнице. Он был в пальто, так же как Нольде и Юдин, и они тут же на лестнице, не раздеваясь, объяснили Чичерину «как старому коллеге по министерству» (Чичерин был раньше, как известно, чиновником министерства) суть дела с арестом Козакова. Нольде и Юдина мы выбрали потому, что оба лично знали и помнили Чичерина по его службе в ведомстве. Сначала Чичерин и слушать не хотел об освобождении Козакова, заявив, что этот вопрос его абсолютно не касается, так как относится к внутренней политике и саботажному движению. Тогда Нольде и Юдин, напомнив свои прежние встречи с Чичериным, сказали, что Козаков обвиняется в сношениях с союзниками и что дело, безусловно, имеет дипломатический характер. При этом Нольде добавил, что с точки зрения международно-политической недипломатично рвать с союзниками и из ареста Козакова устраивать крупное дело, когда в Брест-Литовске переговоры с Германией идут негладко. Быть может, придётся воды напиться и из союзнического колодца.
Подействовал ли этот «дипломатический» аргумент, весьма по тем условиям весомый, или что другое, но к концу разговора Чичерин размяк и сказал Нольде и Юдину, что хотя он и не обещает ничего положительного, но в это дело вникнет и, если будет возможно, окажет «товарищескую услугу». Этот любезный тон в самом конце беседы обнадёжил нас, и действительно через две недели Козаков был освобождён.
Принимая во внимание возможность громкого процесса по такому в высшей степени неблагоприятному для всего саботажного движения поводу, надо признать, что козаковское дело окончилось на редкость благополучно, и мы все были уверены, что это следует приписать исключительно Чичерину. До разговора с ним Нольде и Юдина мы хлопотали две недели, и нам неизменно говорили, что дело слишком громкое и опасное, чтобы его можно было закончить без «чрезвычайных мер». Нет ни малейшего сомнения и в том, что, несмотря на явно германофильскую линию поведения нового советского правительства, Чичерин да и сам Троцкий в тактических целях первое время не раз давали понять немцам, что если те не станут более уступчивыми, Россия будет вынуждена вернуться к союзной ориентации. Немцы, конечно, на такие уловки не попадались, прекрасно зная, что для этого надо было продолжать войну, а Советы, свергнув Временное правительство, не могли вернуться к его лозунгу продолжения войны до победного конца.
Но если немцы хладнокровно воспринимали несерьёзные угрозы большевиков вернуться к союзникам, то последние, наоборот, были донельзя чувствительны к самым скромным авансам большевиков, относясь к ним с серьёзностью, которой они совершенно не заслуживали. Во время брест-литовских переговоров анонимный французский дипломат в прессе, которая тогда ещё была не вполне задушена большевиками, высказывался о выступлениях Троцкого с восторгом и называл его «великим русским дипломатом и патриотом». Само собой разумеется, такая лесть не могла отвлечь большевиков от немцев, но подобные печатные выступления союзников, которых большевики предавали в Брест-Литовске, действовали самым охлаждающим образом на саботажно-чиновничьи круги.
Нам приходилось быть plus royalistes que le roi lui-meme[6]. В частных разговорах с представителями комитета ОСМИДа союзные дипломаты в период брест-литовских