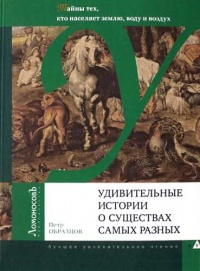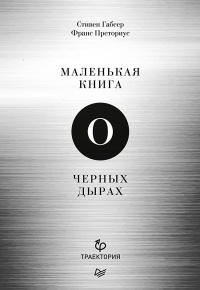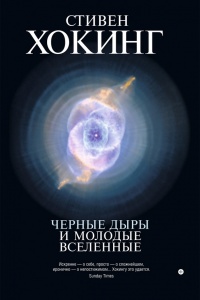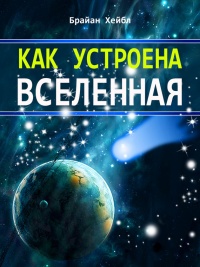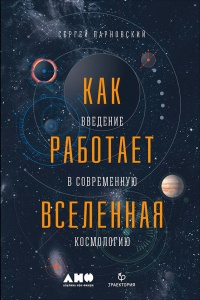Хоть острым взором нас природа одарила,Но близок онаго конец имеет сила:Кроме, что в далеке не кажет нам вещейИ собранных трубой он требует лучей,Коль многих тварей он еще не досягает,Которых малой рост пред нами сокрывает!Но в нынешних веках нам Микроскоп открыл,Что Бог в невидимых животных сотворил!Коль тонки члены их, составы, сердце, жилыИ нервы, что хранят в себе животны силы!Не меньше, нежели в пучине тяжкий Кит,Нас малый червь частей сложением дивит.Велик Создатель наш в огромности небесной!Велик в строении червей, скудели тесной!Стеклом познали мы толики чудеса,Чем Он наполнил Понт, и воздух, и леса.
В полном тексте «Письма о пользе стекла» найдутся и рассуждения об открытии Америки, и об электростатических свойствах этого чудесного материала, и многое другое. Завершается оно просьбой к Меценату (то есть Шувалову) замолвить словечко за автора перед императрицей Елизаветой. Ну, что поделать – ведь речь не только о произведении искусства, но и о заявке на финансирование.
Да, мы совсем забыли напомнить читателю, что такое стекло с научной, с химической точки зрения. Исправляем ошибку. Стекло – это смешанные соли кремниевой кислоты. Существуют три вида стекол – их состав записывают как количество оксида в молекуле:
Содово-известковое стекло (1Na2O: 1CaO: 6SiO2).
Калийно-известковое стекло (1K2O: 1CaO: 6SiO2).
Калийно-свинцовое стекло (1K2O: 1PbO: 6SiO2).
Калийно-свинцовое стекло (или «хрусталь») получается заменой окиси кальция окисью свинца. Оно довольно мягкое и плавкое, довольно тяжелое и отличается сильным блеском и высоким показателем преломления, разлагая световые лучи на все цвета радуги и вызывая игру света.
И еще. Предполагая, что читатель несколько утомился, читая благородные, но все же непростые для понимания стихи Ломоносова, приведем все‐таки и стихи Заболоцкого тоже (1948):
Сквозь волшебный прибор ЛевенгукаНа поверхности капли водыОбнаружила наша наукаУдивительной жизни следы.
Государство смертей и рождений,Нескончаемой цепи звено, —В этом мире чудесных творенийСколь ничтожно и мелко оно!
Но для бездн, где летят метеоры,Ни большого, ни малого нет,И равно беспредельны просторыДля микробов, людей и планет.
В результате их общих усилийЗажигается пламя Плеяд,И кометы летят легкокрылей,И быстрее созвездья летят.
И в углу невысокой вселенной,Под стеклом кабинетной трубы,Тот же самый поток неизменныйДвижет тайная воля судьбы.
Там я звездное чую дыханье,Слышу речь органических массИ стремительный шум созиданья,Столь знакомый любому из нас.
Формула любви с мнимым членом, или Из городских легенд о любви (феромоны)
Феромоны – это летучие химические вещества, выделяемые животными и растениями, чтобы тем или иным образом воздействовать на поведение или даже развитие особей того же биологического вида. Скажем, пчелиная матка способна генерировать феромон, подавляющий половое развитие других самок в улье; в результате бедняжки на всю жизнь лишаются радостей любви, поскольку вырастают бесполыми рабочими пчелами. Феромонные метки, оставляемые муравьями, помогают им вернуться домой или, напротив, указывают их собратьям путь к добыче. В быту, однако, под именем феромонов стали известны и обросли всевозможными легендами главным образом так называемые эпагоны, или половые аттрактанты насекомых.
Речь о привлечении самца (или самки) с целью продолжения рода, для чего природа придумала химический язык. Выделяя эти самые феромоны, чешуекрылое сообщает возможному партнеру о желательности познакомиться поближе. Поразительна чувствительность рецепторов партнера – некоторые бабочки улавливают феромоны в концентрации 1 (одна!) молекула в кубическом метре. Первоначально ученые даже не могли объяснить, как самец – а у бабочек привлекающей стороной является самка – может эту молекулу отыскать. Загадка (якобы) уже решена – самец просто очень быстро и много летает, буквально сканируя, обшаривая крылышками окружающее пространство.
Здесь, кстати, между авторами возникли коренные разногласия. Легенда про одну молекулу в кубическом метре, несомненно, существует. Один из нас (П. О.), однако, держит ее за научный факт, а второй (Б. К.) – за бессовестную утку. Ну, унюхал шмель эту одну молекулу, летая по кубическому метру воздуха со скоростью Супермена, – и что? Солить ему ее, что ли? Откуда он узнает, где находится испустившая эту молекулу самка? Вероятно, это преувеличение в духе желтой журналистики. Несколько миллионов или миллиардов молекул (что совсем немного), за счет градиента концентрации, действительно могут указать верное направление, но одна – как‐то не получается…