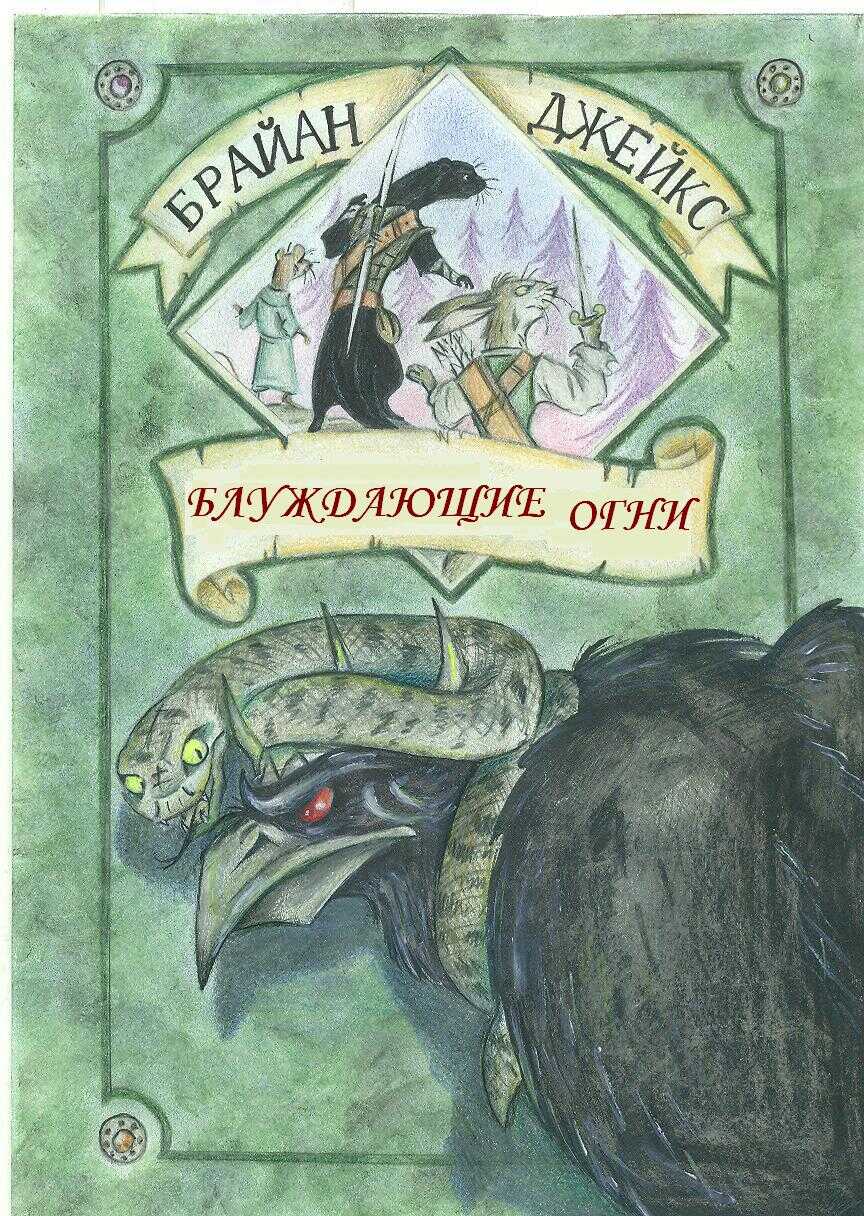Использовав условные значения одежды необычным способом, она создала непохожую на других, современную личность, которая завораживала современников и все еще привлекает нас сегодня. Поступив так, она стала первой в истории жертвой моды.
* * *
Зарождение моды в конце Средневековья отражало и провоцировало драматические перемены в природе статуса, пола, власти и личности. Если драпированные одежды древности позволяли выразить социальный статус с помощью декоративных деталей и роскошных тканей, пошив гарантировал одежде намного более многочисленные и не такие явные эффекты. Выразительный язык моды был особенно значим в эпоху массовой неграмотности, когда зрелища были важнейшей формой пропаганды.
И церковь, и государство общались с народом с помощью изображений, икон и пышных зрелищ. Мода сделала одежду одним из главнейших средств визуального выражения. Имея возможность трансформировать тело, одежда получила уникальную возможность формировать социальные отношения. Но в отличие от архитектуры, скульптуры, музыки и изобразительного искусства, одежда была неизменно личной и неизбежно мобильной. Она делала заявление о человеке, который ее носил, и передвигалась в пространстве вместе с этим человеком. Эти качества сделали моду в высшей степени привлекательной и особенно трудно поддающейся контролю.
Дресс-коды конца Средневековья как раз и пытались обеспечить такой контроль, чтобы создать и сохранить символы статуса. Они гарантировали, что одежда будет символизировать социальный статус – классовую принадлежность, религию, занятие и прежде всего пол. Одежде следовало служить интересам политической власти как церкви, так и государства. Но мода размывала прежние социальные роли так же легко, как и усиливала их, так как она втайне служила другому хозяину – личности индивида. Под влиянием моды символы статуса менялись.
Это продолжалось на протяжении веков, когда переменчивая мода все быстрее трансформировала символы статуса, пока они не стали неузнаваемыми. Началась новая эпоха с новыми символами, сформированными на основании совершенно иного вестиментарного словаря. И в эту эпоху предполагалось общение изысканным шепотом, а не громкими криками.
Часть вторая
От роскоши к элегантности
Рядись, во что позволит кошелек,
Но не франти – богато, но без вычур.
По платью познается человек.
ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР («ГАМЛЕТ», ПЕРЕВОД Б. ПАСТЕРНАКА)
Деревенщина прикрывает себя, богач или глупец украшает себя, а элегантный человек одевается.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
Глава 5
Великое мужское отречение
О сюртуке, шотландке и килте, о гражданской униформе и пудреных париках, как больших, так и скромных
ПО МНЕНИЮ ИСТОРИКА ФАРИДА ЧИНОУНА, «в период Семилетней войны [в середине XVIII века] …офицеры шли в бой с несессером, в котором были духи, губная помада и румяна, пуховка для пудры и щетка для ресниц… Князь Кауниц [Венцель Антон Кауниц, дипломат Гамбургской монархии и дворянин Священной Римской империи] требовал, чтобы четыре лакея каждый день пудрили его мукой»[129]. Сложные пудреные парики, яркие шляпы со страусовыми перьями, обувь на высоких каблуках и сверкающие драгоценные украшения были на пике мужской моды в Европе в 1700-х годах.
Ситуация изменилась в конце XVIII века. На протяжении почти трех десятилетий, с 1760 по 1790 год, мужчины по всей Европе отказались от стилей, веками символизировавших богатство и власть. Мужчины элиты начали носить строгую одежду, о которой писал Томас Мор в своей «Утопии» и которой отдавали предпочтение пуритане. Это была простая одежда из шерсти и льна темно-синего, коричневого, серого или черного цветов.
В 1930 году английский психолог и реформатор одежды Джон Карл Флюгель описал это как «Великое Мужское Отречение… [от] декоративности в одежде… В конце восемнадцатого века… мужчины отказались от своего права на яркие, жизнерадостные, изысканные и разнообразные формы украшения, оставив их исключительно в пользовании женщин и сделав тем самым пошив своей одежды самым суровым и аскетичным из искусств»[130].
Великое мужское отречение было политическим манифестом, отраженным в одежде. Оно показало влияние религиозной строгости в XVII веке и триумф идеализма эпохи Просвещения в XVIII веке. Предшественником великого отречения было упрощение придворного платья во Франции и в Англии, начавшееся в XVII веке. В Англии после казни короля Карла I в 1649 году Оливер Кромвель провозгласил создание Содружества Англии, Шотландии и Ирландии.
Страна сменила форму правления на республиканскую, англиканскую церковь лишили части ее привилегий, что позволило протестантам усилить свое влияние. Парламент принял законы, закрывавшие театры и запрещавшие многие виды деятельности по воскресеньям. Это сочетание радикального республиканства и религиозной нетерпимости привело к тому, что мужчины из элиты начали одеваться строго.
Религиозное влияние также побуждало отказываться от роскоши в странах, где протестантизм имел влияние, в частности, в Германии, Швейцарии, Нидерландах и Скандинавии. Позднее Контрреформация привела к тому, что и в католических странах, таких как Испания и Франция, стали одеваться сдержаннее. Враждебное отношение протестантов к идолопоклонству и церковным облачениям было частью более общих обвинений в чувственности. Знаменитый отчет Макса Уэбера о протестантской этике в работе объясняет связь между религией, капитализмом и новой строгостью в одежде:
«[Религиозное порицание] пустой болтовни, излишеств и тщеславного хвастовства… не во славу Господа, а во славу человека [привело] к решениям в пользу строгой практичности в противовес любым художественным устремлениям. Это было особенно верно в случае украшения, к примеру, личной одежды. Идеальным основанием этой мощной тенденции к единообразию жизни, которая сегодня так сильно помогает капиталистическому интересу к стандартизации продукции, является отрицание любого поклонения плоти»[131].
Казнив своего абсолютного монарха Карла I, английская аристократия больше не нуждалась в том ритуале, который все еще оживлял политическую и придворную жизнь в Версале. Вместо декоративных придворных нарядов она приняла эксцентричный стиль, которому суждено было определить мужскую одежду того времени:
«Сочетание в одежде стильных простых элементов, предлагаемое пуританами более раннего периода, живущими в сельской местности йоменами и нетитулованным мелкопоместным дворянством… подготовили почву для поразительных метаморфоз мужского платья, случившихся в Англии в самом конце восемнадцатого века… В Англии простой сюртук, практичные сапоги, простая шляпа и простое белье становились признаками джентльмена, обладавшего не только многими акрами и полными сундуками, но и практичным умом и презрением взрослого человека к примитивным установкам и мишуре нарядов»[132].
Чиноун отмечает, что в Англии XVIII века «выставляемое напоказ дорогое платье ассоциировалось с французской модой и франкофилией… особенно после пуританской революции и Английской республики Кромвеля, который обрек британскую королевскую семью на двадцатидвухлетнее пребывание при французском дворе»[133]. В самом деле, когда английская монархия была восстановлена в 1660 году, Карл II, извлекший урок из трагического примера отца, установил новый скромный стиль придворного костюма – жилет и сюртук, которые стали прототипом костюма-тройки.
Как пишет историк Дэвид Кучта, «введя костюм-тройку, Карл II попытался приспособить иконоборческую оппозиционную идеологию [впервые введенную во времена Содружества] и использовал ее для того, чтобы по-новому определить придворную культуру… Культурная власть элиты будет выражаться в оппозиции к роскоши, а не в превращении демонстративного потребления в эксклюзивную прерогативу двора»[134]. Последующие события, в частности Славная революция 1688 года, в результате которой был принят первый в мире Билль о правах, ускорили переход от аристократического изобилия к умеренности.
На улицах Лондона как высокородные господа, так и обычные люди одинаково демонстрировали новую сдержанность в одежде. Как пишет современник, лондонцев «редко можно было видеть с золотым позументом; они носят простые сюртуки без складок или украшений… У них маленькие круглые парики, простые шляпы и трость в руке вместо шпаги… Этот наряд можно увидеть на преуспевающих торговцах, богатых аристократах и порой даже на лордах самого высокого ранга…»[135].
Философия Просвещения с упором на личную свободу, научную рациональность и процветание человека усилили этот тренд. Просветители эффективно кодифицировали образ мышления, совпавший с рождением моды. Знаменитое изречение Рене Декарта Cogito, ergo sum (Я мыслю, следовательно, я существую) 1637 года стало выражением взгляда на мир, который сместил данную свыше власть церкви и короны в пользу индивидуального человеческого сознания.
Научный метод подрывал религиозную космологию ради мира, который можно понять с помощью человеческой логики и человеческого восприятия. Взяв за основу