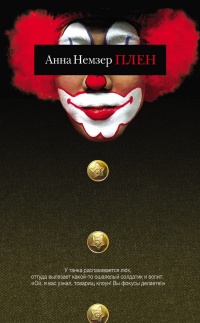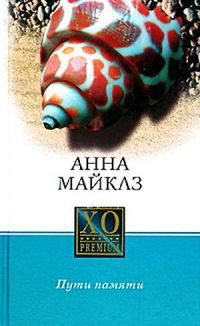6. Пьезоэффект
Hey! Le monde va mal pendant qu’on se tape.
10 ans plus tard le même constat.
Есть такие источники, которых никогда не существовало. Не говоря уж о том, что непонятно, как Ирина могла бы передать это письмо – она никогда бы не стала его писать. Ни природное высокомерие и страшная невозможность признать собственное поражение, ни соображения элементарной осторожности не дали бы ей этого сделать. А письмо такое:
Дорогой Денис!
Пишу, и смешно – никогда я не могла справиться с твоим именем, всерьез тебя так назвать. С этими уменьшительными – Диня, Динечка – дела еще хуже. Но что уж тут. Начну с главного, с самого для меня больного, с самого невыносимого, но лучше я скажу сразу. Он, конечно, любил только тебя. Может, ты и сам знаешь, может, не догадываешься – так вот, чтобы у тебя не оставалось никаких сомнений. Ни я – а он очень меня любил! – ни твоя эмиграция не могли ничего изменить. И встреча-то ваша первая после разлуки была более или менее случайная. Я иногда думаю: зачем я согласилась тебя к нам позвать, я же под любым предлогом могла устроить так, чтобы вы никогда потом не увиделись (в другой жизни, я имею в виду). Потом я понимаю: нет. Это бы ничего не изменило. Он так же любил тебя, так же думал о тебе, так же видел про тебя сны, так же физически мечтал о тебе и безо всякой этой встречи. Это началось в студии, и ничто уже не могло это изменить. Он был человек веселый, ты это знаешь. Он не страдал. Он не сделал мою жизнь невыносимой – он сделал ее счастливой до последнего года, когда что-то изменить было уже не в его силах. Но любя меня, и оберегая, и говоря мне все те слова, что женщина может мечтать услышать от любимого человека, зачиная со мной ребенка, растя его, он всегда думал только про тебя. Такой у нас, Динечка, не треугольник даже, а замкнутый круг.
Именно поэтому, признавая это, ненавидя это, я тебе и пишу, потому что ты имеешь право знать. Никому больше не скажу, и Гриша не знает, и никто никогда не узнает.
Невыносимым, по сути, был только последний год. Или было и раньше, но он ухитрялся держать меня в неведении. В последний год я уже все понимала. Это было как рак – неизбежность. Только без умиротворения, которое – вероятно, не знаю! – дает неизлечимая болезнь, без религиозного принятия. Это был год ненависти и тошности. Мы знали, что его убьют, – я, он, еще пара близких друзей. Он не хотел бежать – и бежать было некуда. В этот год у меня началась бессонница. Не такая, знаешь, на которую жалуются томные девы. Я просто перестала спать, совсем, вообще, и по ночам одно мне было спасение: я выходила на улицу и ходила-ходила, видела эмгэбэшников, дежуривших – довольно лениво, кстати, – под нашими окнами, никогда не находила в себе сил что-то им сказать, и несказанное все во мне бесилось и перекипало. Возвращалась домой под утро. Заваривала ему чай, лила кипяток на запястья. Жгла пальцы о горелку. Я рассказываю про себя, потому что мне трудно перейти к сути.
Тишку вербовали. Как, наверное, всех, кто был в окружении. К Тишке я относилась сложно, и Семен – сложно, но они пробыли вместе всю жизнь. Может быть, он напоминал ему о тебе. Может быть, другие причины. Ну а Тишка-то его обожал, как все вы, студийные. Как все мы, корректнее сказать. Тишка пришел к нам на Рождественский совершенно зеленый и тут же все выложил. Было страшно смотреть. Семен стал ужасно хохотать. Он выспрашивал подробности: «Ну что, а тебе налили хоть? Или вы на сухую весь этот разговор провели? А кто был? Один толстый, один умный?»
Надо отдать ему должное – он ни разу не спросил: а ты-то чего? Хотя вообще он Тишку не щадил обычно. Он хохотал, морщил нос, крутил головой – стоит у меня перед глазами, я опять оттягиваю момент, когда надо перейти к делу.
В общем. “Давай сделаем это сами, и давай сделаем это красиво”. Вот эту фразу я помню, потому что я ее ждала. Я его все-таки неплохо изучила за тридцать лет. Давай сделаем это сами, и давай сделаем это красиво. Когда его убили, я исписала ею обои в нашей спальне, снизу доверху, насколько руки хватило.
Так он решил сразу много проблем. В том числе и с Тишкиным моральным обликом. Уже не надо было думать. Уже не надо было смотреть на него и пытаться считать. Дальше был вопрос техники и техники безопасности. План у Семена был готов: он хотел восстановить какую-то их фронтовую постановку, он хотел напоследок поиграть с этим антифашизмом клятым, он хотел умереть за рулем. Он сказал, что въедет в здание через ход, по которому завозили в специальных фургонах лошадей, что выедет прямо на арену, что грузовик должен быть в свастиках и должен играть какой-то нацистский марш. Дальше грузовик должен взорваться. Тишка сказал: «Это невозможно. Как вы себе это представляете? Взрыв внутри здания? Мы покалечим людей».