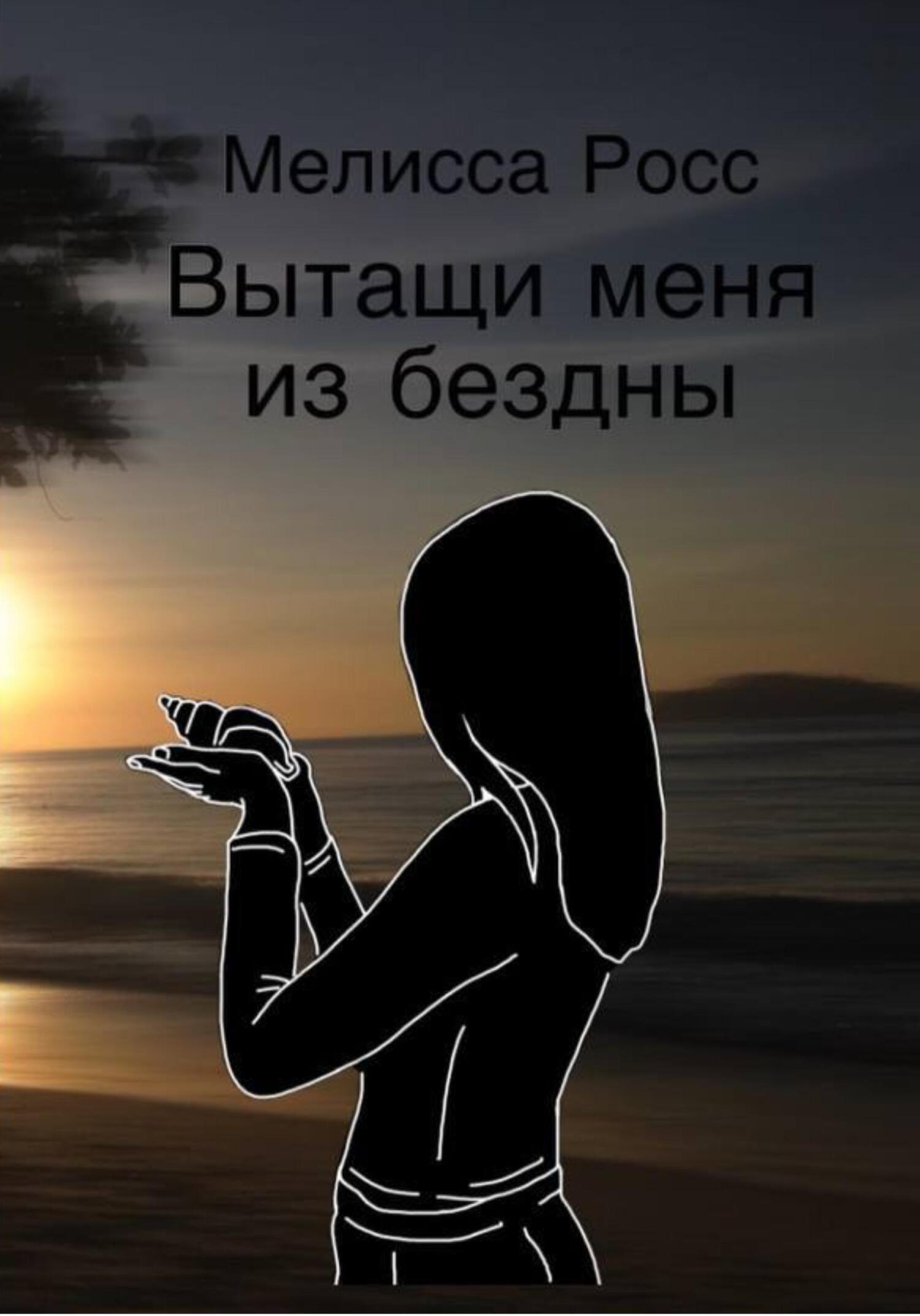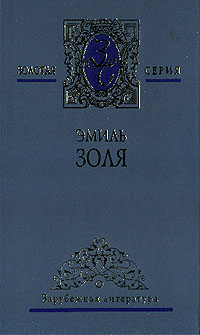по-прежнему стоял на паузе.
– Бывает иногда.
– Паулина – моя самая любимая кукла.
– Я знаю.
– Она всегда со мной. Когда я обедаю с мамой и с папой, и когда смотрю телевизор, и когда иду спать. На Страстной неделе мы с ней вообще не разлучались, ни на минуту. Спасибо, что ты мне ее подарила.
– Мне это в радость.
Уличный свет освещал комнату, мы с тетей отражались в туалетном зеркале. Два маленьких тела в огромных кроватях. А в глубине зеркала, в исчезающей точке, как на рисунке с моих занятий по перспективе, – тьма без конца.
– А тебе бывает одиноко, детка?
– Бывает иногда.
По улице прошагала пара прохожих, и город вернулся к жизни. Шаги, голоса, собачий лай, мотор автомобиля вдали.
– Хочешь, иди ко мне в кровать.
– С Паулиной?
– Лучше ты одна.
Я поразмышляла секунду и решилась. Уложила Паулину как следует – голова на подушке, глаза закрыты, простыню натянула ей до самого подбородка, чтоб не замерзла. Мы с тетей устроились у нее в постели. Полежали на боку, глядя друг на друга, потом она положила руку сверху и обняла меня. Запах сигарет въелся в ее кожу, и изнутри он тоже шел, изо рта, как будто у нее был полный живот пепла. Я уснула, ощущая этот нечистый запах и тяжесть ее руки.
Я не проснулась, когда мама с папой за мной приехали. Проснулась уже в машине, и то не до конца. Папа взял меня на руки и отнес в дом, уложил на кровать, не зажигая света. Постоял чуть-чуть и вышел сгорбленной тенью, оставив дверь открытой. Медленно ступил в пятно света на полу коридора и пошел дальше, но не в кабинет, а в их с мамой спальню.
Послышался мамин голос:
– Она бросила принимать антидепрессанты.
Я села на кровати и представила себе маму с папой. Она – за туалетным столиком, еще одетая, с пучком, в одной руке держит салфетку, в другой – банку средства для снятия макияжа. Он устало шагает к вешалке.
– Мне сказала ее подруга, та, с которой я тебя познакомила.
– Та, маленькая?
– Да. Она два месяца из комнаты не выходила и не раздергивала штор, все пересматривала одни и те же кассеты. «Историю любви» и «Пускай время потечет вспять». Я столько раз думала, что мы давно не разговаривали, что надо ей позвонить…
Оба умолкли.
Я представляла, как мама сидит у зеркала с потерянным лицом, уже без макияжа, бледная, с синяками под глазами и с раздражением под носом. А он – за ее спиной, в отражении. Стоит без сил в рубашке навыпуск и по одной расстегивает пуговицы.
И снова до меня донесся мамин голос:
– Но я не позвонила. И муж с детьми тоже ничего не сделали.
Мама с папой снова стали спать вместе, смотреть друг на друга и разговаривать. Она по-прежнему целыми днями лежала в постели, но все-таки читала журналы, принимала душ, причесывалась, спускалась на первый этаж, ухаживала за растениями и обедала вместе с нами.
Как-то в воскресенье, несколько недель спустя после смерти Глории Инес, мы поехали в гости все втроем, впервые с той ссоры. Папа вел машину, мама сидела рядом. Я – на заднем сиденье, с Паулиной на коленях, – болтала не умолкая. Что вот-вот закончится учебный год, что таблица умножения на семь и на девять – это ужас какой-то, что хоть бы только мне сдать математику с первого раза, что как здорово было бы нам всем куда-нибудь поехать и какая мама сегодня красивая.
– Правда, пап?
– Правда.
Как-то раз папин одноклассник, с которым мы случайно столкнулись в парке аттракционов, принял маму за его дочь. Да и теперь она вполне могла бы сойти за его дочь – в джинсах, черной футболке с широким вырезом, спадавшей с одного плеча, и с волосами, собранными в конский хвост, как у школьницы.
– Клаудия, – мама повернулась ко мне, – я понимаю, у тебя хорошее настроение, но мужу и детям Глории Инес сейчас очень грустно. Тебе нужно успокоиться.
– Хорошо, мам.
Сыновья Глории Инес, как обычно, вышли к нам взъерошенные и в шортах, неохотно поздоровались и разошлись по своим комнатам.
– Они совершенно уничтожены, – сказал муж.
А мама:
– Еще бы.
Она заговорила о новостях, муж попытался было проявить интерес, но вскоре умолк. Тогда мама заговорила о погоде. Муж, с идеально уложенными и расчесанными волосами и усами, молча отпил глоток кофе, и ответил маме только папа:
– Скоро лето.
Без Глории Инес им было совсем не о чем говорить, да еще снаружи виднелся этот жуткий балкон. Ослиные хвосты, длинные и бледные, висели за оконным стеклом, в нескольких шагах от пропасти. Кактусы, агавы и суккуленты стояли в гостиной, недоверчивые, как всегда.
– А кто же теперь заботится о растениях? – спросил папа.
Мама в ужасе посмотрела на него, а муж закрыл лицо руками.
После двух неудачных визитов мы перестали к ним ходить.
Несколько недель спустя, когда наша жизнь стала почти такой же, какой была до ссор и Гонсало, дверь квартиры распахнулась, как раз когда Лусила вставляла снаружи ключ в замок. Это была мама, причесанная, накрашенная и ярко одетая – в полосатых брюках, белой блузке без рукавов и красных туфлях на каблуке. Она стояла посреди сельвы, а я смотрела на нее, потрясенная больше, чем когда она плакала на лестнице.
– Что случилось?
– Привет, тезка, – сказала она с улыбкой.
Взяла мой портфель, поставила у лестницы, и мы вместе пошли в столовую.
– Что-то случилось?
– Нет.
Лусила вынесла мне обед и ушла обратно на кухню.
– Как сегодня в школе?
– Хорошо, – ответила я, ожидая, что с минуты на минуту она обрушит на меня дурные новости. Что взорвалась атомная бомба. Или что похуже. Что она уходит из дома, потому что папа – чудовище, а она никогда не хотела детей, устала от своих обязанностей и счастлива только с Гонсало.
– Ты хотела бы поехать на каникулах на финку?
– Ты мне это хотела сказать?
– Да.
Я набрала воздуха:
– Все втроем?
– Да, конечно.
– А там есть бассейн?
– Там есть купальня с водопадом.
– А где это?
– В горах. А вокруг такие ущелья, что тебе и не снились.
Она рассказала, что утром ходила за покупками и столкнулась с Мариу и Лилианой, школьными подругами, о которых я никогда не слышала. Они уезжали на каникулы в Майами и сдавали свою финку.
– Когда мы были совсем маленькие, их мама там пропала.
– Как это?
– Взяла и исчезла.
В ее словах звучала радость,