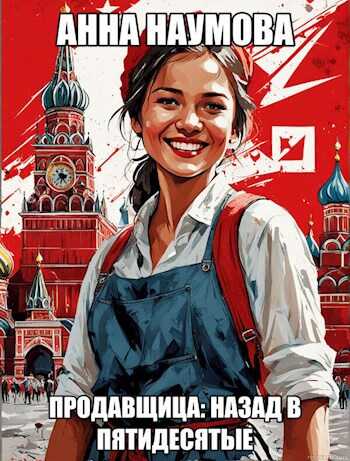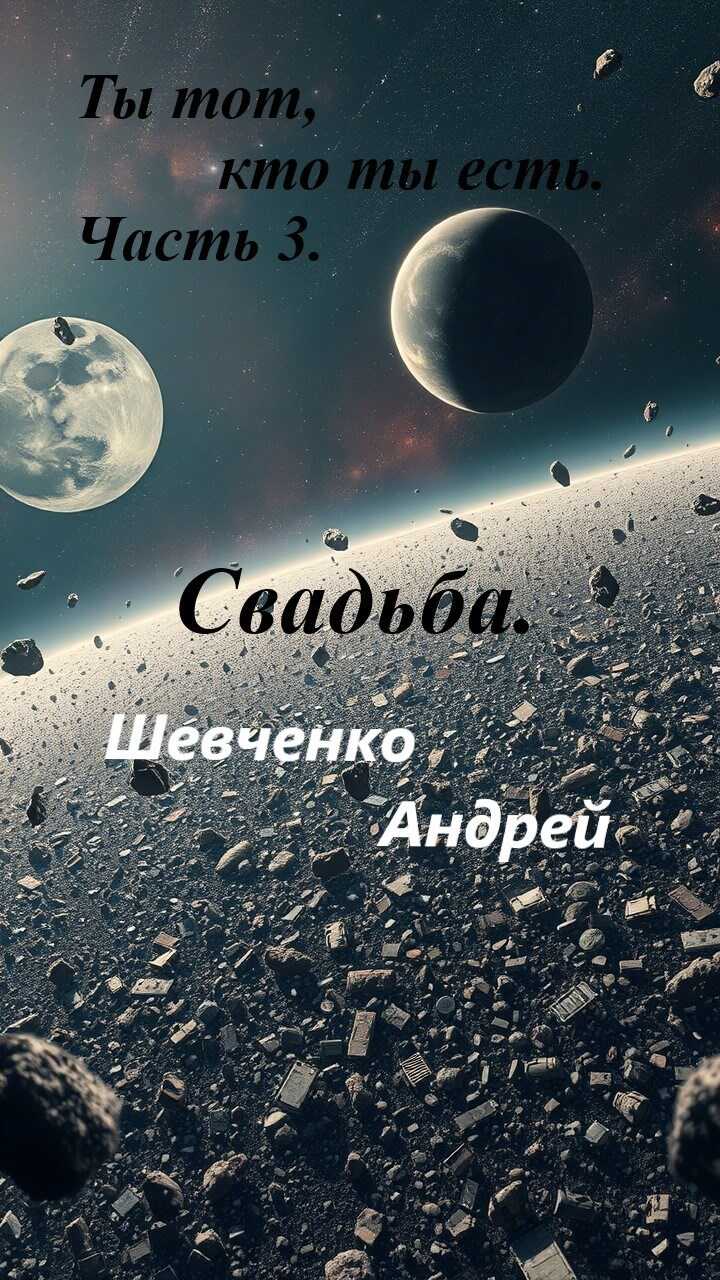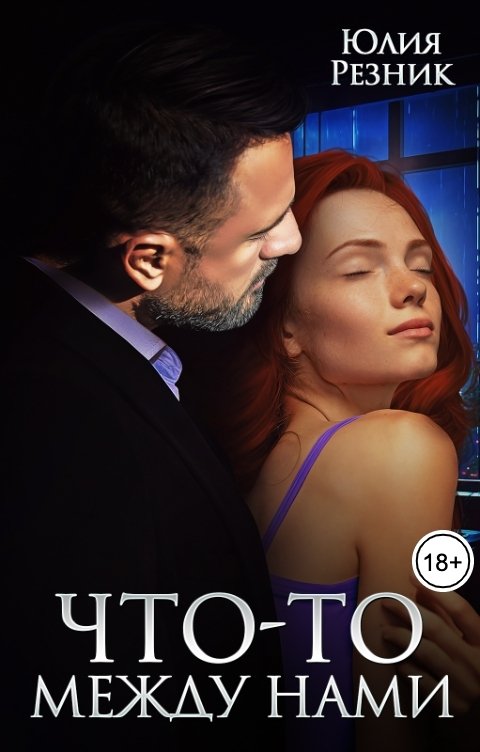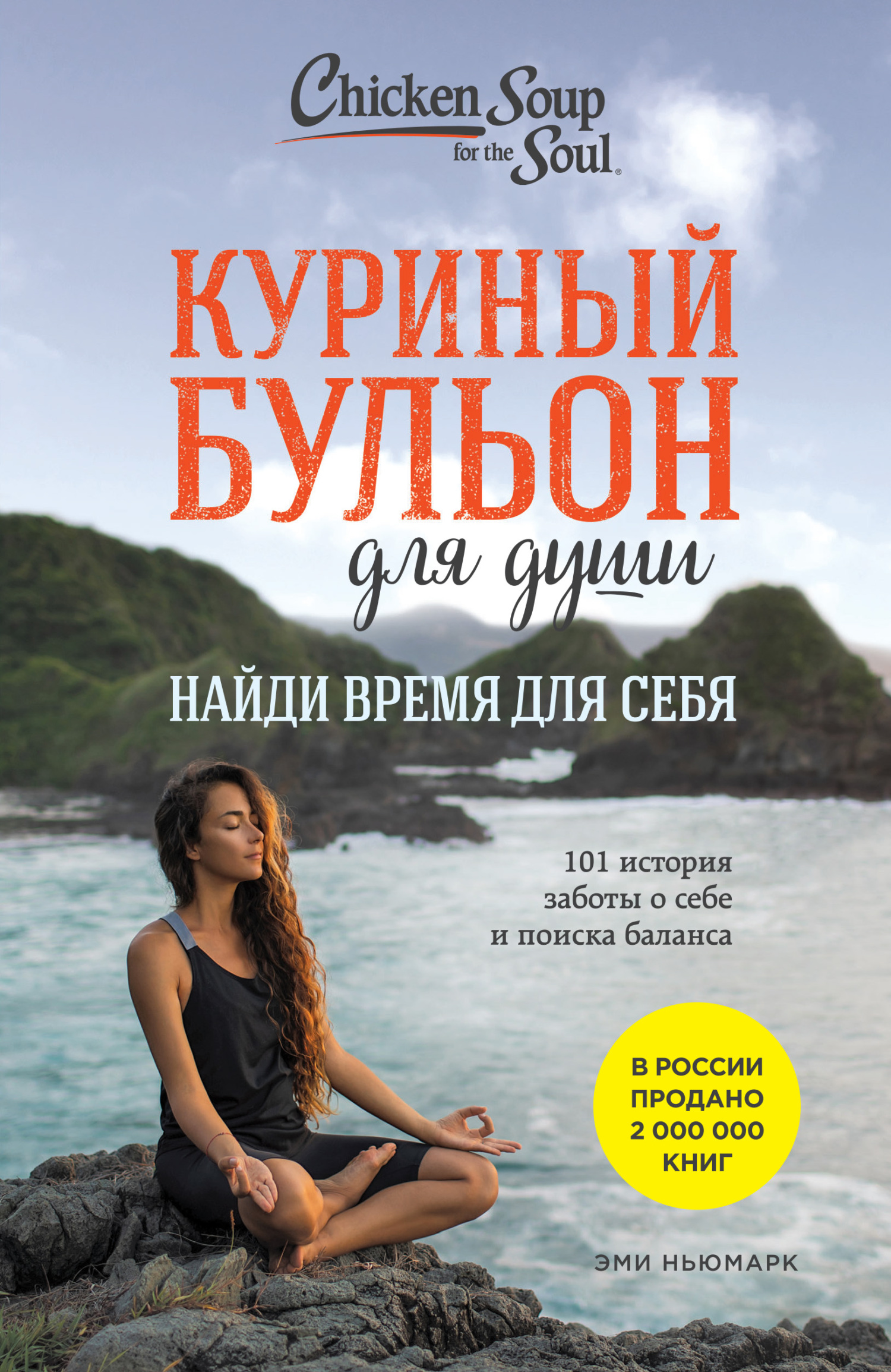Женькину ногу в грязном ботинке со стула, — у нас разуваться принято на входе! Давай-ка, забирай свое пойло и дуй в комнату. А если еще раз увижу, что ты моих гостей спаиваешь, Дарье Никитичне скажу! Она на тебе живого места не оставит! Давай-давай, ступай!
Не привыкший к резкому обращению Женька мигом сник и, утратив свою напыщенность, удалился в комнату, прихватив бутылку. Готова поспорить, он был только рад, что ему больше достанется. Я села рядом с внезапно объявившейся в моей квартире Катериной Михайловной и, обняв ту за плечи, попросила:
— Катерина Михайловна, душенька! Ну расскажите же, что случилось!
Продолжая вытирать мокрое лицо краем вконец испорченной скатерти, подруга — и по совместительству завуч — начала свой печальный рассказ.
В прошлые выходные ее новоиспеченный супружник Климент Кузьмич, наш трудовик, по своему обыкновению двинул на дачу спозаранку, с первой электричкой. Нужно было там еще доделать какие-то дела. Обрадовавшись «холостой» жизни, Катерина Михайловна вволю выспалась, после чего прибралась в квартире, запекла в духовке пирог и, скипятив чай, уселась перед телевизором, надеясь прекрасно провести остаток дня в ничегонеделании.
Однако ее ждало разочарование — по всем каналам шла «профилактика». Стало скучно. Разочарованно потыкав на кнопки для верности несколько раз, Катерина Михайловна, поняла, что насладиться телевидением сегодня не получится, вздохнула и набрала телефонный номер нашей общей подруги Софочки — может, хоть она согласится составить компанию и зайдет в гости.
К телефону никто не подходил. Катерина Михайловна сообразила, что Софью Исааковну, скорее всего, снова внезапно вызвали на работу. Что ж, такая у следователя жизнь — могут дернуть в любое время дня и ночи. Зимой 1963–1964 года, когда ловили Владимира Ионесяна, вошедшего в историю советского сыска под кличкой «Мосгаз», она дневала и ночевала на работе. Значит, сегодня Софью ждать в гости не придется… Наверное, опять составляет фоторобот какого-нибудь преступника и допрашивает свидетелей.
От скуки Катерина Михайловна проверила тетради, протерла везде пыль и стала отчаянно думать, чем бы еще заняться. Включив радио, она услышала:
— Ночью ожидаются похолодание до плюс пяти градусов и грозовые дожди…
Новоиспеченная жена кинула взгляд на вешалку в прихожей и вдруг увидела, что теплый ватник и шапка Климента Кузьмича так и остались висеть на вешалке.
«Тихонько, наверное, с утра собирался, чтобы меня не разбудить, свет включать не стал, — подумала Катерина Михайловна. — И как он там теперь, без теплой-то одежонки? Одеялом старым разве каким укроется… И голодный, наверное! Что он там съел-то за день? Пару бутербродов да кефир выпил…»
За окном и правда холодало и жутко завывал ветер — подруге даже пришлось надеть теплую кофту и связанные мной в подарок носки. Отопление еще не дали. Катерина Михайловна прилегла на кровать, укрылась пледом и, включив настольную лампу, принялась читать интересную книгу. Всего через полчаса она начала зевать — видимо, действовала погода. В такую погоду и впрямь — только оставаться дома и спать.
Однако заснуть молодой жене не давали муки совести: она так и не могла свыкнуться с мыслью о том, что ее бедный Климент Кузьмич, когда-то давно застудивший себе спину на фронте в окопе, будет сейчас ворочаться в летнем домике и укрываться старыми байковыми одеялами, стуча зубами и отчаянно пытаясь согреться.
Поворочавшись еще немного, Катерина Михайловна посмотрела на часы (половина восьмого!) и приняла единственное, как ей тогда казалось, верное решение для любящей жены. Взяв ватник, шапку, а заодно и теплые кальсоны и авоську с провизией — колбасой, батоном, пирогом и большой трехлитровой банкой домашнего борща, она двинулась на Ярославский вокзал, ежась от холодного вечернего воздуха.
Моей подруге повезло: электричка на станцию, неподалеку от которой располагалась дача Климента Кузьмича, должна была вот-вот отправиться. Наскоро взяв билет у хмурой кассирши, Катерина Михайловна добежала до электрички, устроилась на жестком деревянном сиденье и всего спустя пятьдесят минут приехала на станцию.
На перроне было почти пусто. Только компания каких-то странно одетых ребят бренчала на гитаре и что-то пела на английском. Знакомой дорогой Катерина Михайловна быстро дошла до дачи супруга. В окнах старого домика горел свет.
«Еще не спит!» — обрадовалась любящая жена и постучалась в дверь.
— Клим, открывай! Это Катя!
Глава 8
За дверью молчали. Катерина Михайловна постучала еще раз, потом еще и еще.
«Неужто сердце опять прихватило?» — подумала любящая жена. — «Говорила же ему, растяпе этакому: „Бери с собой таблетки! А если плохо чувствуешь себя, не надо на эту фигову дачу ездить, тем более в такую холодрыгу!“ Сезон давно закончился, с огородом возни нет больше, урожай собрали, банки за заготовками закатали, крышу перекрыли, туалет построили. Продадим следующей весной эту хибару — и дело с концом!»
Катерина Михайловна с колотящимся сердцем приложила ухо к двери. За дверью было тихо, а потом послышались шепот и невнятная возня.
«Неужто воры повадились?… А где же тогда Клим?»
Насчет воров предположение явно было ошибочным. Брать в деревянной развалюхе, которую Климент Кузьмич ни за что не хотел продавать и во что бы то ни стало желал привести в надлежащий вид «для потомков» и сохранить, было решительно нечего: пару банок с закатками, старый топчан, одеяла да нехитрый сельскохозяйственный инструмент: грабли, вилы, пилы… Да и дача была так себе — одно название. Словом, ничего такого, чем всерьез можно было поживиться. Потомками Климент Кузьмич тоже так пока и не обзавелся, по меньшей мере — официально. Вывозить на дачу было некого. Поэтому я, как и Катерина Михайловна, отчаянно не понимала, зачем он так держится за этот старенький домик.
— Зато свое! — натруженным довольным тоном говорил молодой супруг, таща на горбу два мешка картошки.
По правде говоря, своя сермяжная правда в словах фаната советского дачного «отдыха» все же была. Свое — оно свое и есть. В семидесятых, да даже и восьмидесятых годах свои дачи были отнюдь не у всех советских граждан. Было несколько вариантов дач. Первый — так называемые «старые дачи», полученные еще до Великой Отечественной Войны. Такие дачи в «элитных» поселках получали отнюдь не простые люди: сотрудники административного аппарата ЦК, Совмина, Госплана и прочих организаций, а также военнослужащие высокого ранга, известные писатели, художники, артисты и прочие деятели культуры. Такие дачные поселки находились, как правило, недалеко — в двадцати-тридцати километрах от столицы, обладали большими участками и придуманы были исключительно для отдыха элиты. А что? Сидишь себе преспокойненько в шезлонге, книжку почитываешь, вяжешь или