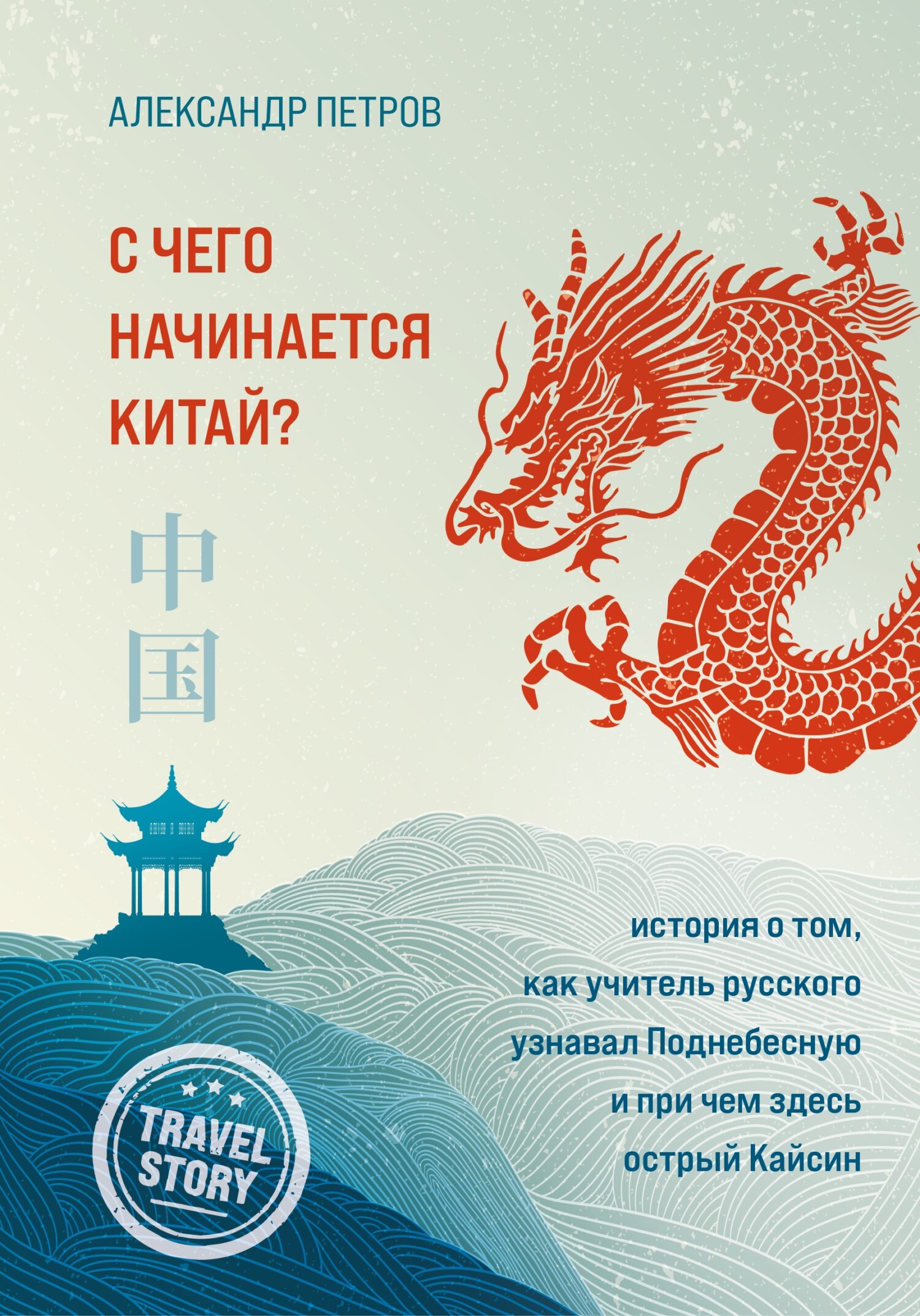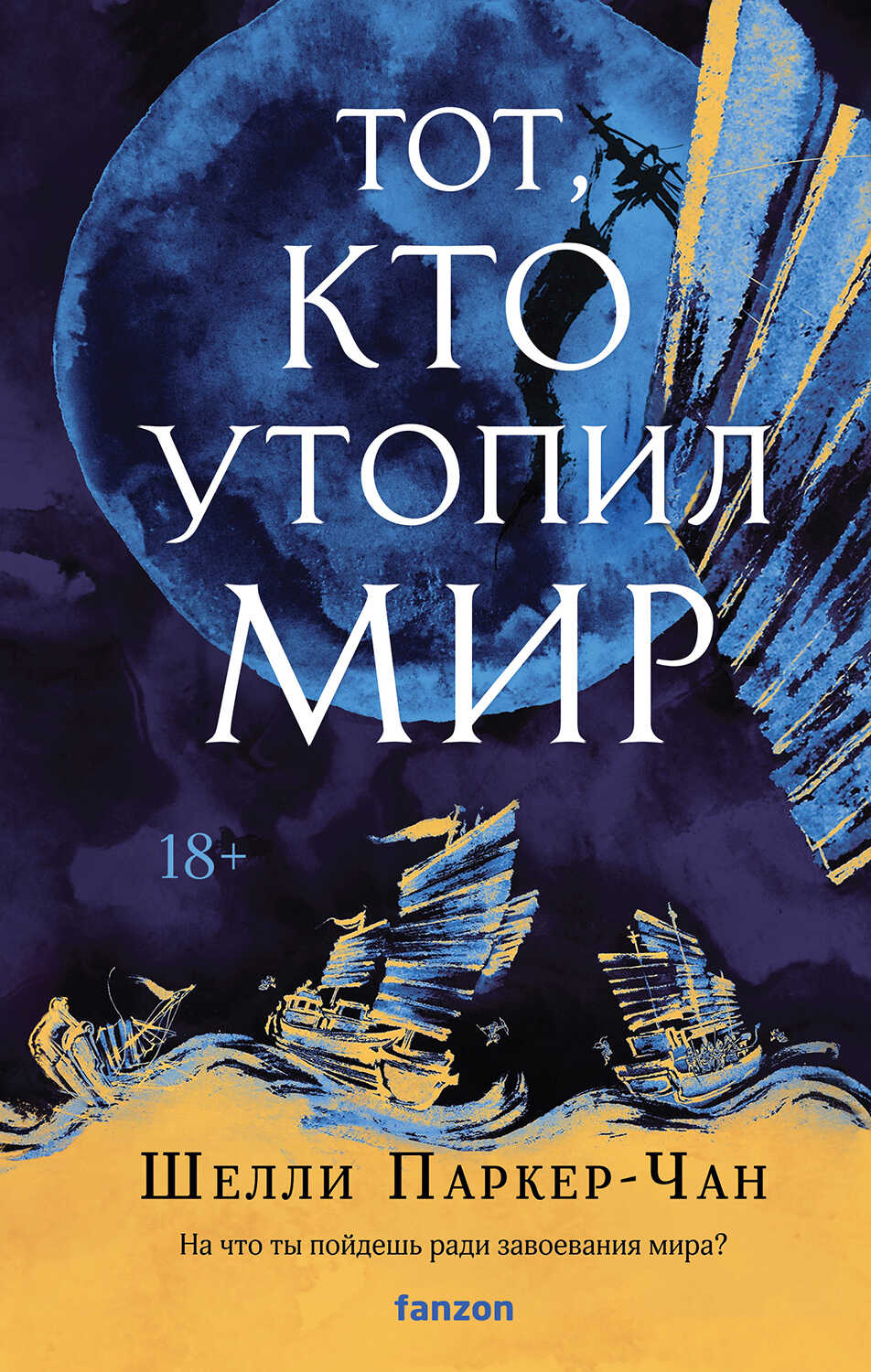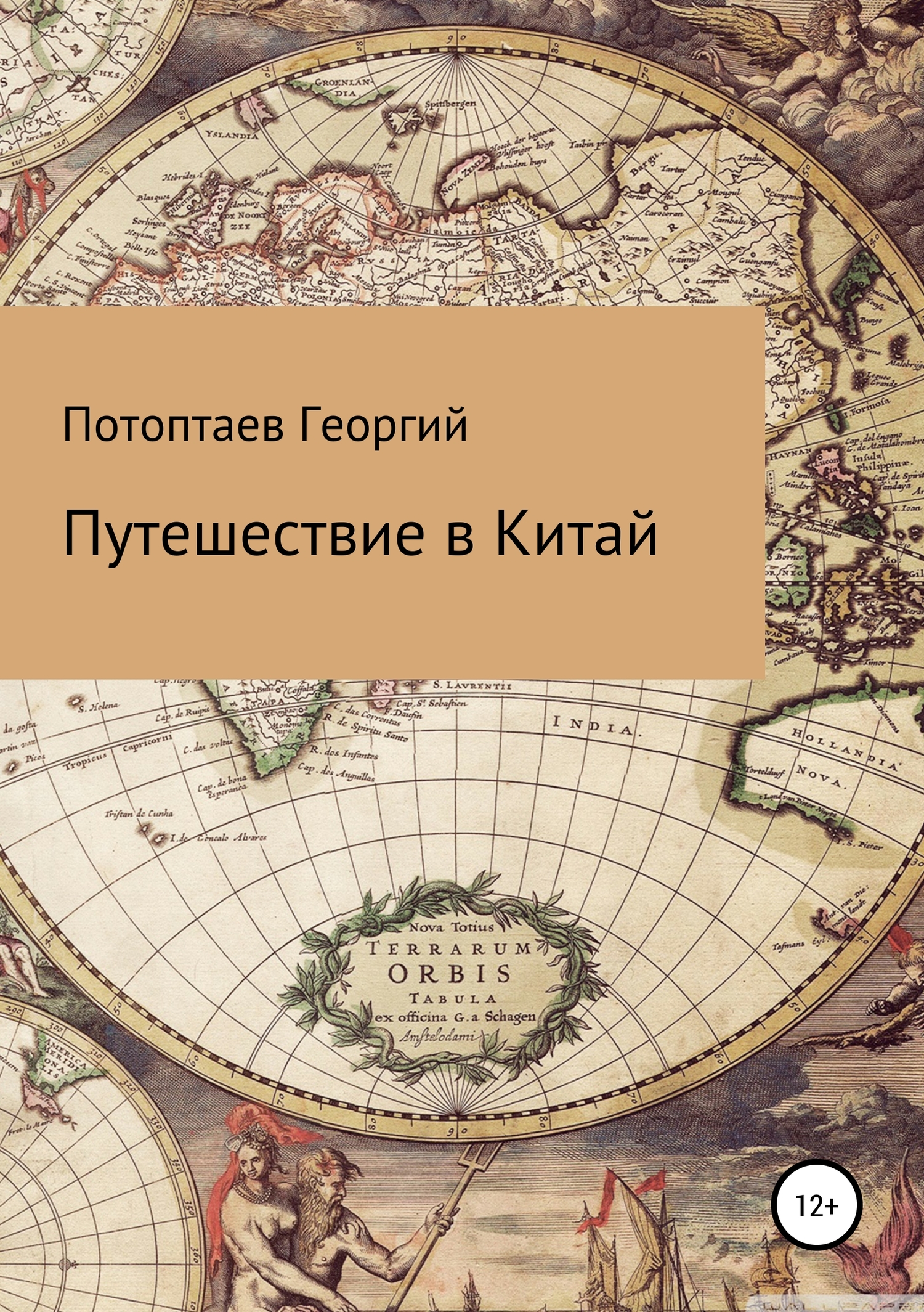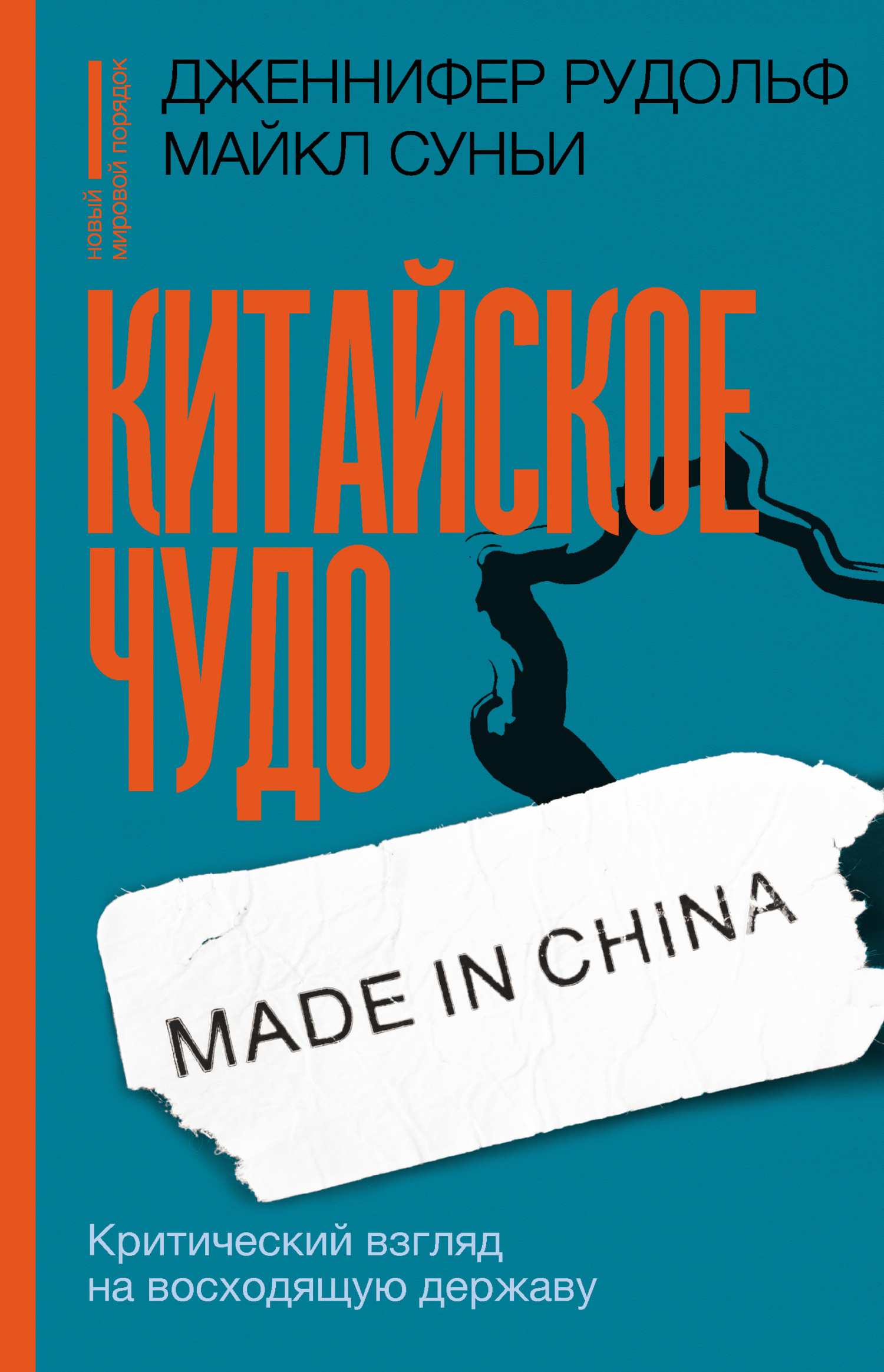описаний, а порой и насмешек или даже принижения, как китайцы. Их экзотическое своеобразие, обычаи, этикет, этический кодекс, зачастую противоположный европейскому, вызывали как минимум любопытство.
Об этих различиях и странностях подробно рассказывали знаменитые путешественники-репортеры прошлого: англичане Джон Томсон и Томас Уэйд (почетное китайское имя Вэй Томас), немец Эрнст фон Гессе-Вартег, итальянец Луиджи Барзини, француз Пьер Лоти, американка Элиза Скидмор.
Китайская коса, еще в XVIII веке не привлекавшая особого внимания европейцев, привычных к моде на парики и косички, в XIX столетии стала отличительной приметой подданных Небесной империи, настолько бросающейся в глаза, что ее замечали, как курьезную особенность.
Мода на ношение косы, которую в обязательном порядке и с легкостью носили все мужчины Поднебесной, была навязана маньчжурскими завоевателями в середине XVII века и продержалась до первых десятилетий XX века. Черная коса длиной около 30 см была у всех без исключения – от императора до самого скромного носильщика. Исключение составляли лишь буддийские монахи, чья религия предписывала бритье головы, а даосские священники смогли сохранить свою традицию, собирая волосы в пучок.
До завоевания Китая татары[106] не отличались осторожностью, но и им пришлось покориться новой моде и заплетать волосы в косу, ведь император приказал всем цирюльникам ходить по деревням и городам с бритвой в одной руке и мечом в другой, оставляя китайцам нехитрый выбор: либо стричь волосы, либо расстаться с головой.
Этот драконовский закон становился причиной частых бунтов, которые неизменно подавлялись кровавыми расправами, и головы непокорных незамедлительно катились с плеч. В конце концов прагматизм взял верх, и люди выбирали менее болезненную стрижку. Немалую роль сыграло и то, что император решил убедить своих новых подданных мирным путем, приказав всем приговоренным к высшей мере наказания отрезать косички, дабы для тех, кто их носил, это стало доказательством благонадежности.
Сопротивление утихло, и вскоре вся империя стала носить косичку как символ высокого статуса и изысканности. Мужчины гордились своими «конскими хвостами», удлиняя их с помощью плетеных конских волос и красных лент, завязанных в большой бант.
Детям разрешалось отращивать волосы весьма любопытным образом – небольшими локонами, разбросанными возле ушей и на затылке, а промежутки между ними выбривались, так что казалось, будто у них несколько косичек. Но в четырнадцать лет всех сбривали под затылок, и юноши начинали отращивать косу как символ взросления и зрелости.
Когда в семье наступал траур, мужчинам не полагалось ни расчесывать, ни стричь волосы. При кончине императора косу держали распущенной сто один день, после чего в нее на время вплетали белые ленты. Только рабочим и лодочникам дозволялось обматывать косу вокруг головы, чтобы она не мешала трудиться. Однако, если работнику требовалось побеседовать с представителем более высокого сословия, он обязан был распустить косичку – явиться перед важной персоной с завязанной на голове косой считалось верхом неуважения. Ни одно действие не воспринималось китайцами столь оскорбительным, как обрезание косички, к которой все относились с величайшей щепетильностью, граничащей с суеверием.
Когда в конце XIX века стали возникать первые антиправительственные группировки, маскирующиеся под религиозные секты и объявившие войну косам, в городах начались волнения. Смельчаки нападали на косоносцев прямо на улицах, обрезая им драгоценные локоны. Власти предупреждали людей не выходить на улицу ночью, запирать двери домов и даже возводить ограды для защиты причесок.
Помимо кос, больше всего европейских путешественников XIX века в Китае удивляло положение женщин. Гости поражались, не встречая на приемах ни жены, ни дочерей хозяина дома. Дамы семейства были невидимками, не участвовали в банкетах, а вместо них приглашались куртизанки, обученные развлекать мужчин беседой, песнями и грациозными манерами. В театре у женщин имелись особые ложи, недоступные для мужчин. Во время выездов в каретах или паланкинах тоже можно было видеть только мужчин, тогда как женщины передвигались отдельно в другое время.
Считалось неприличным осведомляться о здоровье супруги, просить разрешения ее навестить, не говоря уже о подарках для нее. В общественной жизни женщин словно не существовало, несмотря на высокую церемониальность обычаев. Единственной женщиной, с которой разрешалось разговаривать, была мать семейства. Если гость хотел выказать ей почтение (но ни в коем случае не жене хозяина), гость должен был использовать строго определенную формулу: «Я передаю свои пожелания мира в великолепные покои долголетия». Обсуждая жену друга, ее следовало называть «почтенная госпожа» или «Ваша избранница»; говоря о своей собственной, использовали термин jiannei, что означает «малышка из внутренних комнат».
Между китайскими и маньчжурскими женщинами существовали определенные различия. Китаянки бинтовали ноги, а маньчжурки не калечили их и носили атласные или шелковые туфли на высокой белой подошве, сшитой из множества слоев набивного хлопка. Маньчжурки также отличались одеждой: они носили брюки, как у мужчин, а поверх белых или синих носков завязывали яркую ленту. Их короткая кофта из хлопка или шелка застегивалась у бедер на завязки и едва прикрывала талию.
Как и у мужчин, все их нижнее белье сводилось к маленькому нагрудному платку, подвешенному на шее с помощью металлической цепочки и застегивающемуся на талии. Вокруг бедер повязывался короткий передник, образующий подобие мини-юбки. Поверх всего этого они надевали длинный халат без пояса, скрывающий ноги, оставляя видимой только высокую подошву обуви. Различные элементы одежды маньчжурских женщин обычно были одного цвета, но украшались широкой разноцветной лентой.
Как и китаянки, маньчжурки обильно белили и румянили лица, удваивая толщину нижней губы. Только бесстыжие женщины пренебрегали косметикой. Нанесение макияжа требовало времени и сноровки. Сначала лицо смазывали медом, затем покрывали свинцовыми белилами, которые хорошо ложились после припудривания, а потом легкими движениями тряпочки, смоченной кармином, наносили румяна. Такой слой мог держаться два-три часа, и когда он начинал сходить, сверху добавляли новые слои краски.
Верхом кокетства считалось проводить вертикальную линию между глазами кармином и украшать виски вырезами из позолоченного шелка, украшенными маленькой жемчужиной или парой антенн, которые изящно колебались при ходьбе дамы.
Что касается причесок, у маньчжуров была своя особая мода: они делали пробор посередине головы, разделяли волосы на две части и завязывали каждую узлом на макушке. В месте соединения горизонтально крепилась металлическая шина длиной двадцать пять сантиметров, на которой волосы поднимались вправо и влево, скрепляясь узлами из красного шнура. Настоящие или искусственные цветы, длинные булавки и бабочки завершали образ.
Использование золотых или эмалированных серебряных наперстков было характерно как для маньчжуров, так и для китайцев. Они служили для защиты длинных ногтей, но также носились в качестве украшения на коротких ногтях.
Ни в одной стране мира обычаи не соблюдались так строго и не имели столь