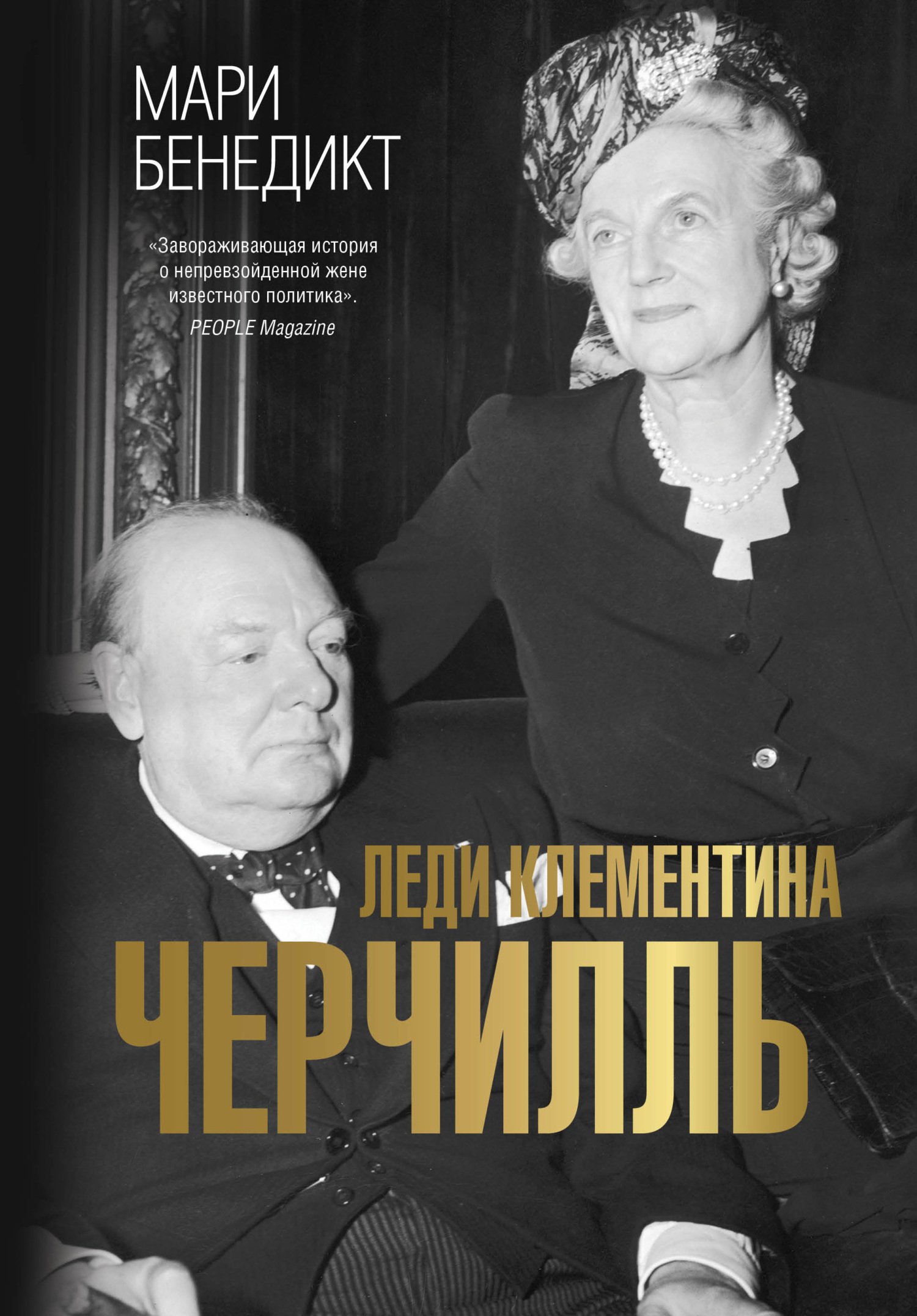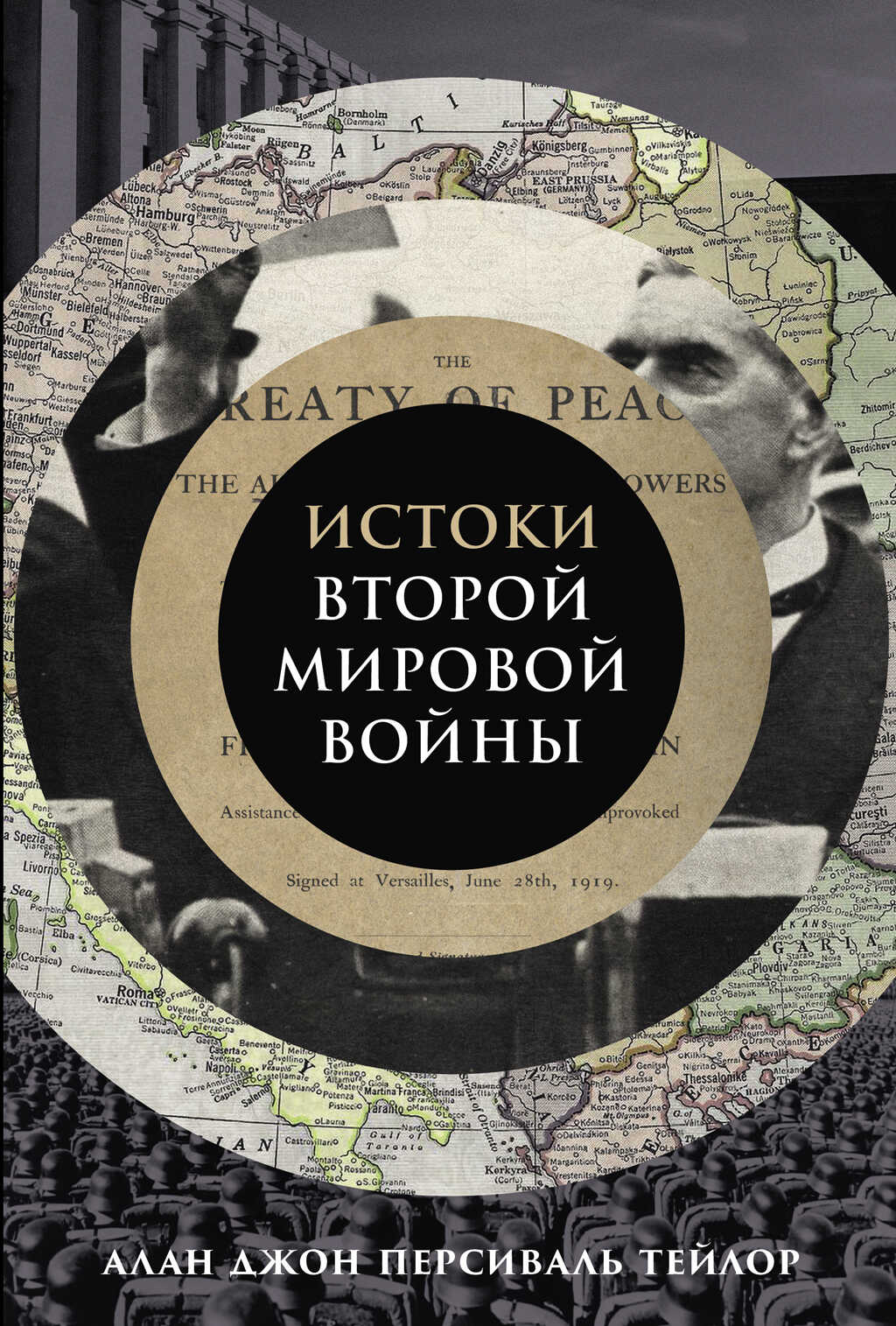Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
охарактеризовал людей как прирожденных каннибалов, а его теория «обезьян-убийц» попала в заголовки газет всего мира. Ученый считал, что человечество перешло на более «гуманную» диету только с появлением земледелия – всего 10 тысяч лет назад. Возможно, причина нашего «общего нежелания» признавать, какие мы на самом деле, кроется в истории зарождения нашей цивилизации[141].
Сам Дарт не испытывал по этому поводу никаких сомнений: наши предки были «закоренелыми убийцами: кровожадными тварями, которые захватывали жертву, забивали ее до смерти, разрывали на части, отдирая кусок за куском, утоляя ненасытную жажду ее горячей кровью и жадно пожирая багровую содрогающуюся плоть»[142].
Работы Дарта заложили основу для многих последующих открытий. Первой по его стопам пошла Джейн Гудолл, которая изучала в Танзании наших ближайших родственников – шимпанзе. Поскольку шимпанзе долгое время считались миролюбивыми травоядными животными, для Гудолл стало потрясением, когда в 1974 году она оказалась в самом эпицентре обезьяньей войны.
В течение четырех лет две стаи шимпанзе вели между собой жестокие битвы. Шокированная увиденным, Гудолл долго держала свое открытие в секрете, а когда она наконец сообщила об увиденном научному сообществу, многие ей не поверили. Она описывала, как шимпанзе «зажимали голову жертвы, пока из носа не начинала течь кровь, и пили эту кровь; ломали жертве конечности и зубами сдирали с нее кожу»[143].
В 1990-х годах один из учеников Гудолл, приматолог Ричард Рэнгем (он же коллега Брайана Хэйра из главы 3), предположил, что наши предки были подобны шимпанзе. Проводя прямую линию от этих хищных приматов к полям сражений XX века, Рэнгем говорил, что война у нас в крови и что «современные люди – выжившие потомки существ, на протяжении пяти миллионов лет культивировавших привычку к смертоносной агрессии»[144].
Что привело его к такому выводу? Все просто: убийцы выживают, жертвы погибают. Шимпанзе склонны объединяться в банды и нападать на одиноких особей – точь-в-точь как хулиганы на школьной площадке.
Вы, наверное, думаете: ладно, все это звучит убедительно, но касается только шимпанзе и других человекообразных обезьян, а Homo puppy – вид уникальный. Разве мы не завоевали весь мир благодаря своему дружелюбию? И что нам известно о тех временах, когда сапиенсы еще занимались охотой и собирательством?
Ранние исследования, казалось бы, ответили на эти вопросы. В 1959 году антрополог Элизабет Маршалл Томас выпустила книгу о племени кунг, которое и по сей день живет в пустыне Калахари[145]. Как она называлась? «Безобидные люди» (The Harmless People). Основная мысль соответствовала духу 1960-х годов – тогда в антропологию пришло новое поколение ученых с левыми убеждениями, которые пытались взглянуть на наших предков глазами Руссо. Они утверждали, что если мы хотим узнать, как жили первобытные люди, достаточно познакомиться с ныне существующими кочевыми племенами охотников-собирателей.
Томас и ее коллеги писали, что, несмотря на периодические стычки, возникавшие в джунглях или в саванне, племенные «войны» по большей части сводились к простым оскорблениям. Порой кочевник мог пустить в чужака стрелу, но при первом же ранении с той или иной стороны конфликт считался исчерпанным. «Вот видите! – восклицали прогрессивные академики. – Руссо оказался прав! Пещерные люди были благородными дикарями».
К огорчению хиппи, вскоре стало появляться все больше доказательств обратного.
Более тщательные исследования показали, что теория обезьян-убийц справедлива и для охотников-собирателей. Их ритуальные сражения и впрямь выглядели довольно невинно, однако это не мешало им устраивать жестокие нападения на мужчин, женщин и детей под покровом ночи. Даже якобы миролюбивое племя кунг при ближайшем рассмотрении оказалось довольно кровожадным. (А количество убийств на их территории резко снизилось, когда в 1960-е она перешла под контроль государства – то есть когда гоббсовский Левиафан прибыл установить главенство закона[146].)
И это было только начало. В 1968 году антрополог Наполеон Шаньон опубликовал сенсационное исследование народа яномами, живущего на территории Венесуэлы и Бразилии. Книга называлась «Свирепые люди» (Yanomamö: The Fierce People). В ней описывалось общество, существующее «в хроническом состоянии войны»; что еще печальнее, больше всего жен и детей было у мужчин-убийц. Отсюда следовал логичный вывод: насилие у нас в крови.
Дискуссия завершилась лишь в 2011 году, когда вышел в свет монументальный труд психолога Стивена Пинкера «Лучшее в нас». Это грандиозная работа, проделанная одним из самых влиятельных интеллектуалов мира: 802 страницы, набранные мелким шрифтом и заполненные графиками и таблицами. Идеальное орудие, чтобы сразить врагов наповал.
«Сегодня, – пишет Пинкер, – мы можем перейти от рассуждений к цифрам»[147]. А цифры говорят сами за себя. Какова средняя доля скелетов, найденных в 21 месте археологических раскопок и имеющих признаки насильственной смерти? Пятнадцать процентов. Какова средняя доля насильственных смертей в восьми племенах, до сих пор живущих охотой и собирательством? Четырнадцать процентов. А средняя доля насильственных смертей в мире за весь XX век, включая две мировые войны? Три процента. А тот же показатель сегодня?
Один процент.
«Если говорить о жестокости, начали мы не лучшим образом»[148], – соглашается с Гоббсом Пинкер. Биологи, антропологи и археологи сходятся в одном: люди добры к своим близким, но равнодушны к чужакам. По сути, мы самый воинственный вид на планете. Впрочем, Пинкер спешит утешить читателя: «достижения цивилизации» облагородили нас[149]. Появление земледелия, письменности и государства помогло обуздать наши агрессивные инстинкты и прикрыть звериную натуру толстым слоем цивилизованности.
Дело казалось закрытым – под тяжестью всей статистики, приведенной в фундаментальной работе Пинкера. В течение многих лет я полагал, что он прав, а Руссо – нет. В конце концов, цифры не могут врать.
А потом я узнал про полковника Маршалла.
3
22 ноября 1943 года. Ночь опустилась на остров в Тихом океане, где только-только начиналась битва за Макин. Наступление разворачивалось по плану, пока вдруг не произошло нечто странное[150].
Участником атаки на остров, удерживаемый японцами, был полковник и историк Сэмюэл Маршалл. Он сопровождал группу американских десантников, первыми высадившихся на берег. Редко когда историк оказывается так близко к эпицентру событий. Вторжение на остров – это совершенно особая операция, своей изолированностью напоминающая лабораторный эксперимент. Маршаллу представилась идеальная возможность наблюдать боевые действия в реальном времени.
В тот день солдаты прошли под палящим солнцем три мили, и к вечеру сил на рытье окопов ни у кого уже не оставалось. Они не знали, что почти вплотную приблизились к расположению противника. Японцы атаковали с наступлением темноты, и после одиннадцати попыток штурма американских позиций им почти удалось прорвать оборону, хотя численный перевес был не на их
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113