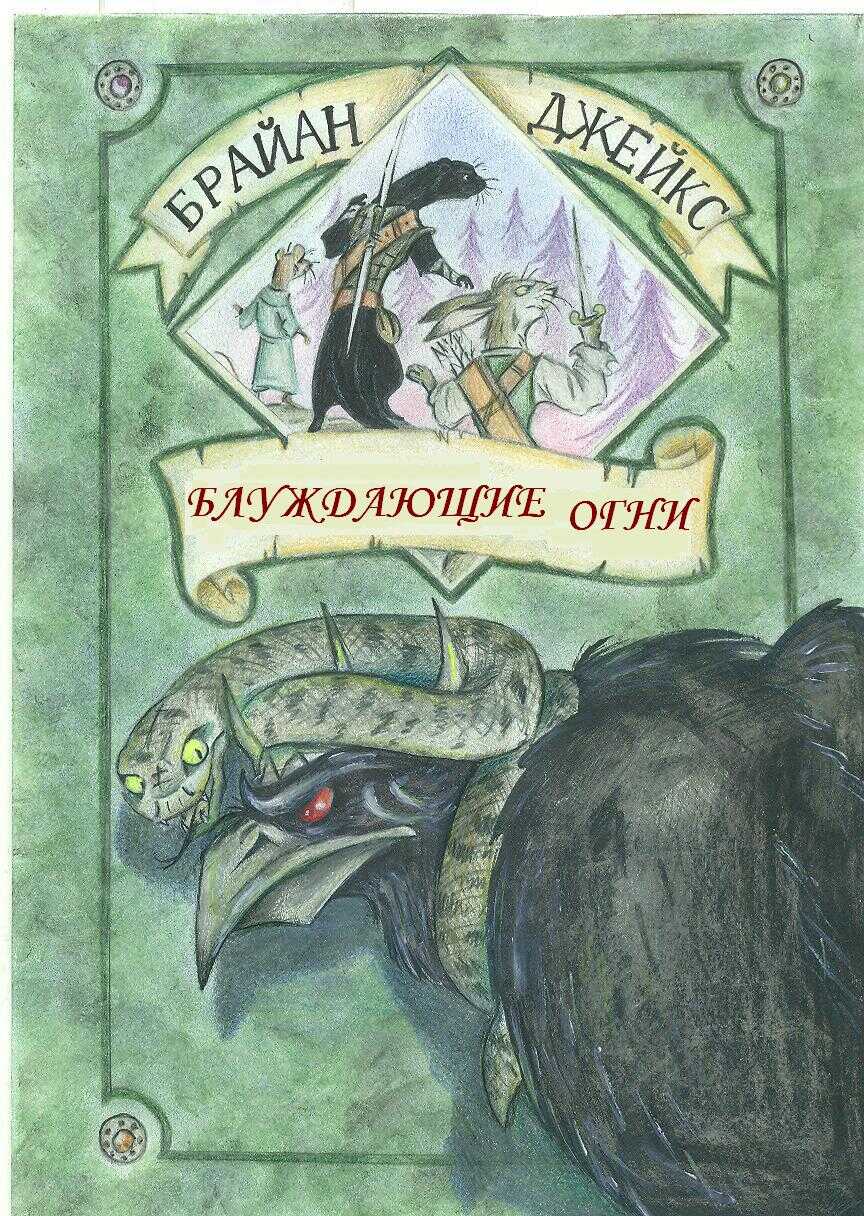она кричала только что. «Котлеты? Я расскажу вам о них…» Усмехнулась даже. «Вы просите песен? Их есть у меня». Улыбнулась и начала, как маленьким детям или будущим мамам в женской консультации, объяснять очень сложные вещи, через которые проходят все женщины. Ничего невероятного тут нет, собственно. Рассказывает, утешая и не давая им волноваться. Очень постепенно подходя к сложностям, которые подстерегают на пути, а их, к сожалению, много: хорошо быть мамой в Москве, труднее – в Таганроге, еще труднее, если ребенок ваш болен, а с продуктами плохо, и отец работает в цирке, и все время ты одна. И ты одна и одна, и это повеситься, как тоскливо, даже если ты любишь своего ребенка, своего мужа и весь советский цирк. И, начав нарочито нормально, она кончает непроизвольным вскидыванием рук, выкрикиваниями и призывами купить красный в горошек трактор минского завода, который изготовлял раньше балалайки, потому что только так можно выжить в этих экстремальных, если называть вещи своими именами, обстоятельствах. И только тогда ваш сын вырастет здоровым и нормальным ребенком – то есть никогда. А вам останется только собрать свои молитвы в кулачок, растолочь их молотком, перемешав с остатками луковой шелухи и скорлупы от яиц, добавить туда немного губной помады, следы которой вы нашли на пиджаке своего мужа, когда он приехал из парижской командировки, и запах женских духов, все тщательно перемешать и сделать себе ночной крем для лица «Лунное сияние».
Аня стала лучше – юмористичнее, легче.
Миша, кроме жирафьей шеи, получил уши. Начал хорошо. А потом от него ничего и не требуется, только искренность и – захлебываться воспоминаниями. И случайно задел какую-то тему (например, «котлеты»), случайно – и маму прорвало. Его монолог был позитивный. Он и не думал задевать. Да и она стояла с улыбочкой отстраненной, горестной. Ничто не предвещало. Вдруг – закричала и стала рассказывать про эти чертовы котлеты. А там – бездна: и счастье, и мука, и мечты, и горе. И заговариваться стала. И – танец. «Котлетный» танец о непрожитой жизни. По-моему, интересно: из провинциальной, закрытой женщины вырвать крик, а потом перейти на суперспокойный, вежливый рассказ, переходящий в абракадабру. Это признак болезни, не выдержала внутреннего напряжения. Если без крика, то это просто монолог. А с криком – современное искусство. Никто никого не понимает. У каждого своя боль. Каждый – пружина, раскручивающаяся по своим собственным законам.
Надо начать с резкости. Пять судеб и палач. Дрессировщик – из-за него и погиб Жираф.
Разговоры. Собственно, с чего все и началось. Разговоры с артистами: «Ребята, хотите поговорить?» – «Да». А о чем люди хотят поговорить больше всего? О себе. Давайте!
При этом хочется сделать так, чтобы эти разговоры были жизнью, жизнью на сцене, именно произнесение слов было бы жизнью. И каждый раз – разной. Разные формы жизни. Говорить при этом очень просто, буднично. Нужно сделать особое наложение мазка. Чтобы был впечатляющим именно этот мазок. Эта интонация. Каждого человека. Все монологи – о себе. Прослеживается связь каждого с Жирафом – жена, любовь из другого города, сын и так далее. Это все, исходя из очень личных монологов самих актеров о себе.
Может быть, все стоят. Это не спектакль, а заминка, не рассиживание, а ожидание на улице у ритуального зала, мороз минус три, все зябнут. Стоят. Сесть негде. Стоят, все в черном, как на похоронах, с цветами в целлофане. Кто-то снял целлофан, но не знает, куда деть, мнет в руках. Противный хруст. Они не очень знают друг друга или совсем не знают. Жена не знает женщину из другого города, не знает, что она есть, а та знает о жене, но никогда не видела, только, может быть, случайно одну фотографию у него в бумажнике. Сын этой женщины первый раз в Москве, отца никогда не видел. Или видел последний раз в шесть лет. Хороший парень из Таганрога. Женщина, его мать, Первая Жена Жирафа, знает больше всех присутствующих, вся – сплошное переживание и нерв, но все закрыто, говорит все время про другое. Сыну всегда говорила, что отец умер, уехал в Африку, и только сейчас, перед приездом сказала ему, что его отец работал в цирке и бросил их десять лет назад. Комок нервов, но спрятанных так глубоко, что можно их принять за что-то иное.
Вторая Жена разговаривает только о нем. Может говорить только о нем.
Актриса, которая ее играет, долго входит в роль, пытается подойти к ней, объяснить, что это трудно, не получается, что она хотела бы сказать что-то от себя, но неуверенно себя чувствует, поэтому ей легче, если она прочтет, хотя это тоже трудно… И ныряет в роль, в Жену, во Вдову, западает туда. Молниеносное полное преображение.
Последним выходит Дрессировщик. Он тоже в черном, только усы и из-под черного пальто блестят цирковые сапоги. С цветами. Начинает свой монолог, может быть извиняясь, что он играет в их жизни такую роль, закрываясь смешками и юмором, говорит о своем одиночестве. Хочет сказать, что он такой же, как они. Начинает первый собирать рухнувший стол. И говорить по-армянски. Все его сначала сторонятся, но потом садятся за стол.
Может быть, иногда возникает проекция на стене – черная толпа с цветами ждет у дверей. Заснят вынос гроба, автобус, кладут. Они повернулись и смотрят. Автобус уезжает, они смотрят вслед и садятся за стол.
А может быть, и не надо этого.
Но как-то сделать так, что таких толп много. Может быть, несколько проекций возникает в разных местах? Несколько проекций разных толп. И тогда тут, среди наших, повисает пауза, пока те не уйдут.
А может быть, и этого не надо.
А надо пронести один раз в глубине большого жирафа. И сзади стенка, и там дверь, и толпа входит в эту дверь, пронося туда этого жирафа.
А может быть, пробегают разные животные – слон, носорог, жираф, рыба, пеликан. Те, кто умерли, – все.
А может быть, и этого не надо.
А может быть, их, этих экзотических птиц и зверей, и проносить сзади? И провожают, и несут их такие же черные люди, как наши? У кого-то фламинго, у кого-то рыба… И всех проносят в эту таинственную дверь…
А может быть, кто-то из нашей толпы опоздал и стоял тут, рад, что все еще здесь, и сказал свой монолог, открылся, а когда на стене показалась другая толпа, например с фламинго, понял, что ошибся, и, неловко извиняясь, перешел к своим и ушел с ними в ту нарисованную дверь.
Примечание
Спектакль «Смерть Жирафа» был поставлен в нашей Лаборатории в театре «Школа драматического искусства» в 2009 году. Он был продиктован желанием отдохнуть: до этого я ставил «Тарарабумбию», в которой участвовало 85 человек, и очень устал. Такое удовольствие приходить на репетицию, когда их всего семь!
Роли исполняли:
Аня Синякина – Первая Жена Жирафа
Маша Смольникова – Вторая Жена Жирафа
Миша Уманец – сын Жирафа от первого брака
Сережа Мелконян – коллега Жирафа по цирку, человек с одной ногой и с кислородным баллоном
Ира Денисова – женщина на кладбище
Аркадий Кириченко – музыкант похоронного оркестра
Наташа Горчакова – актриса нашей Лаборатории, у которой сначала была большая роль в этом спектакле, но потом роль обрезали, а она осталась.
Роли Дрессировщика в спектакле не было.
Художник спектакля – Вера Мартынова.
Младен Киселов – мой друг, режиссер, с которым так хорошо было поговорить и помолчать о театре. Он жил в то время в Америке.
Opus № 7
«Родословная» и «Шостакович»
Я, кажется, понял, о чем эти спектакли – об одиночестве. Одиноки те, кто приходит к стене. Одиноки те, кто в стене. Одинок мальчик у огромного рояля. Одинок старик перед большой Матерью-Родиной. Романс Бернса о друге – об одиночестве. Плач об умершем младенце – об одиночестве. Даже песня о Волге – об одиночестве. Борьба с одиночеством – танец с предками. Корчак идет со своими детьми – борьба с одиночеством. Борьба с одиночеством – повторение имен ушедших людей, писание музыки. Человек (маленький) перед лицом чего-то большого – стена, род, погибшие, умершие, мать, Родина, музыка, смерть, любовь.
Заглядывание