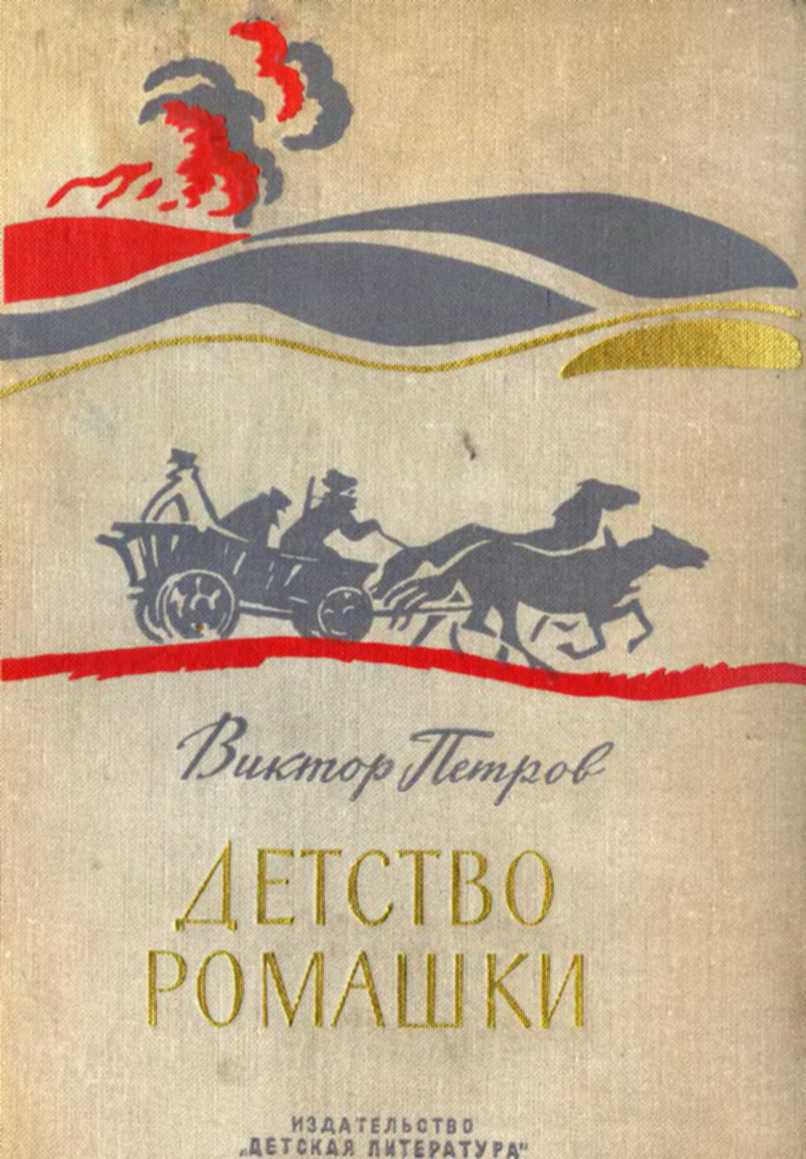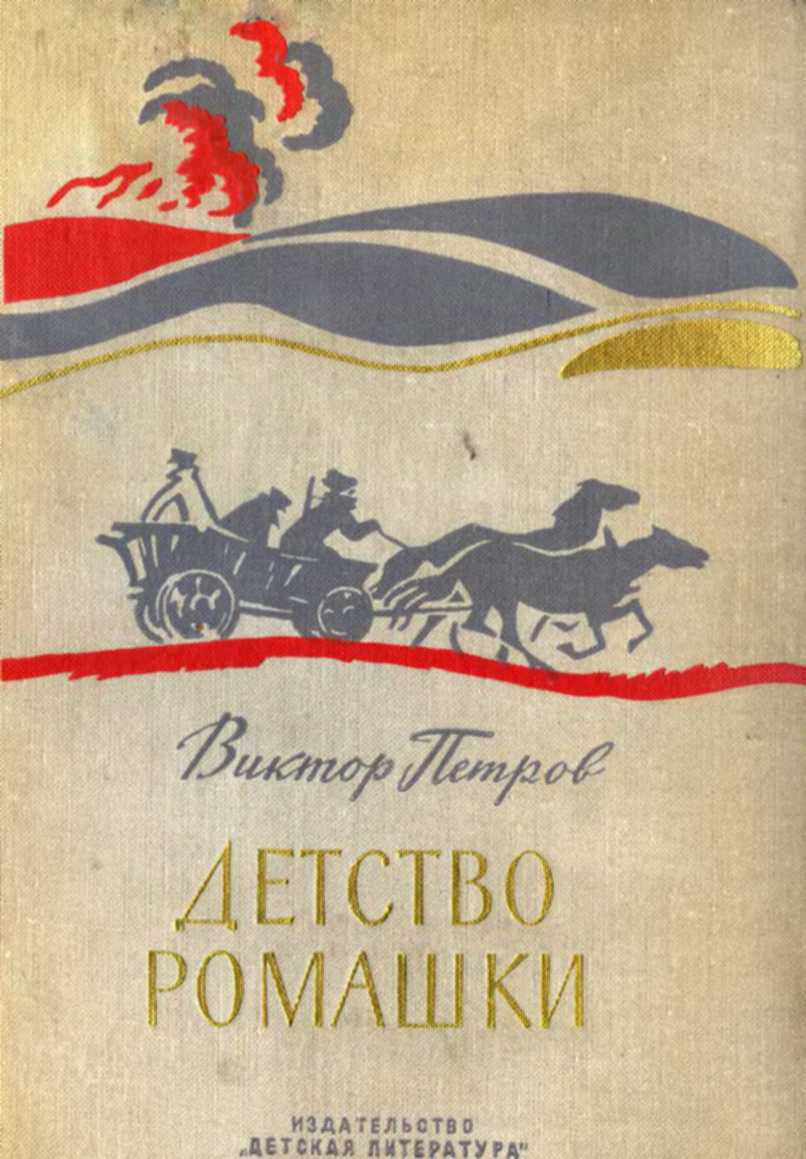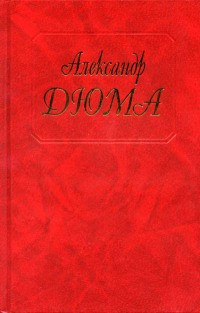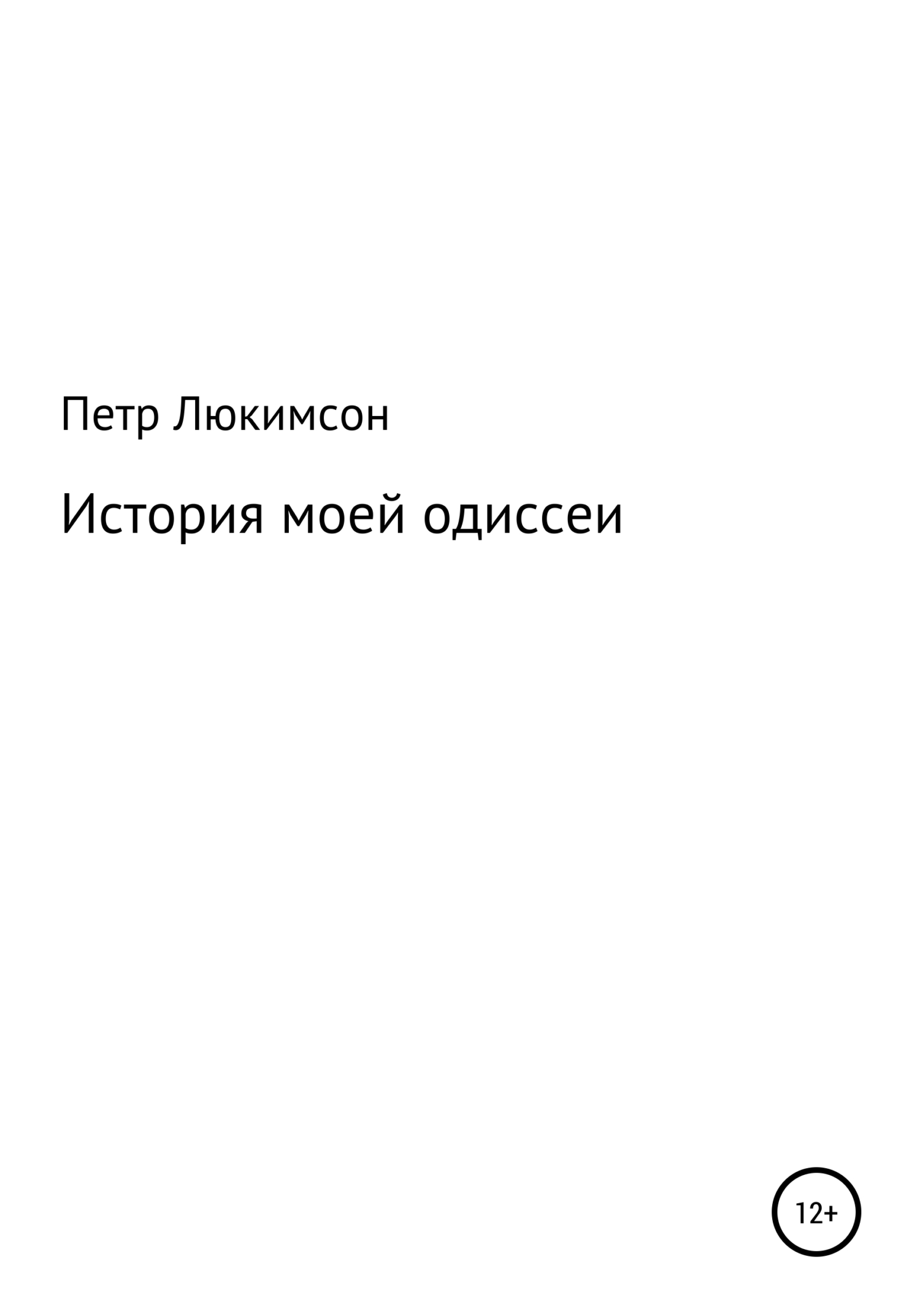Ознакомительная версия. Доступно 27 страниц из 135
исследование Павла Николаевича Милюкова «Государственное хозяйство в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого», Евгений Викторович Анисимов заметил: «Не соглашаясь со многими выводами Милюкова 〈…〉 мы не можем не отметить, что в книге Милюкова впервые в литературе была четко поставлена одна из центральных проблем историографии петровских преобразований – проблема „цены реформы“»[7]. В работах самого Анисимова эта проблема возникает постоянно.
Соотношение величия замысла – построение Великой Утопии, «регулярного» государства, работающего как отлаженный часовой механизм, расширение пределов идеального государства – и цены, которую страна платила за эту величественную попытку как в период преобразований, так и в последующие столетия, должно определять и стилистику восприятия событий, не описания, а именно восприятия.
Один советский историк, автор вполне традиционной монографии, неожиданно обмолвился фразой, полной смысла: «Жестокая, драматическая, грандиозная эпоха Петра Великого требует суровых рембрандтовских красок»[8].
Суровый колорит рембрандтовских полотен выявлял, помимо драматизма их смыслового ряда, и трезвую суровость зрения художника.
Когда Феофан Прокопович, один из центральных персонажей этой книги, создавал концепцию абсолютной, бесконтрольной и безответственной власти Петра и опирался на библейские прецеденты, это был не только сильный демагогический прием, но искреннее ощущение масштабов происходящего в России. Библейских масштабов.
Уже цитированный нами Федор Августович Степун, человек верующий, наблюдая тектонические катаклизмы 1917–1918 годов, осознал, что на его глазах происходят события библейского масштаба, сравнимые с Сотворением мира, как оно описано в Книге Бытия, – неистовая попытка создания новой реальности.
Петр, демиург, тоже созидал некий небывалый прекрасный мир, и это уподобление вполне подходит и к его революции.
Автор важного для нашей проблематики исследования «От Петра до Павла. Реформы в России XVIII века: Опыт целостного анализа» Александр Борисович Каменский, характеризуя государственных деятелей, пришедших к власти после смерти Петра, пишет: «Это были опытные, хорошо информированные администраторы, прошедшие школу Петра. Но в отличие от своего учителя, который при всем своем жестком рационализме был еще отчасти и романтиком, имевшим определенные идеалы и мечтавшим об их достижении хотя бы в отдаленном будущем, верховники проявили себя откровенными прагматиками»[9].
Высокопрофессиональному историку Каменскому свойственны осторожность и «взвешенность» формулировок. Но дело в том, что «романтик» Петр не намерен был откладывать реализацию своих «определенных идеалов» в отдаленное будущее. Героика и трагедийность его революции в том-то и состояла, что он пытался осуществить свои замыслы, свои идеалы – немедленно, подчиняя реальность своему «романтическому» напору.
Необычайная парадоксальность сознания Петра заключалась в сочетании «жесткого рационализма» и безудержного утопизма. Это была вулканическая смесь, порождающая катастрофический эффект.
Эту парадоксальность очень точно, по своему обыкновению, определил Пушкин в знаменитой максиме: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, – вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика»[10].
Беда была в том, что идеальное «регулярное» государство, основанное на мудрых принципах – «идеалах», – было в далеком будущем, вечности. А сиюминутные преобразования производились кнутом, плахой и дыбой.
Сознание православных людей того времени, а тем паче ориентированных на Ветхий Завет раскольников, должно было уподоблять происходящее великому бедствию, предсказанному в Библии.
Антихрист, с которым в народе ассоциировался Петр, – библейский персонаж, перешедший в новозаветную мифологию и особенно ярко представленный в Апокалипсисе как гонитель и истребитель всех, кто мешает ему выполнять свою страшную миссию.
Московские книжники предполагали, что Петр – это тот самый восьмой царь из Откровения Иоанна Богослова. Если отсчитывать от Ивана IV, не считая Лжедмитрия, то все получается арифметически точно. И по катастрофическим последствиям царствования – тоже.
У Иоанна в главе 17 сказано: «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи, и пойдет в погибель». Туманный смысл пророчества не делал его менее грозным. – И царство будет отдано «зверю», восьмому царю, «доколе не исполнятся слова Божии».
В одном из вариантов «Николая Палкина» поздний Толстой со свойственной ему в это время предельной определенностью позиции откликнулся терминологически на это пророчество: «Беснующийся пьяный зверь… четверть столетия губит людей…»
Но были и вполне определенные предсказания, соответствующие представлениям не только о личности и предназначении Антихриста, но и о характере Петра-воителя.
В среде сибирских старообрядцев родилось поверье, что Петру предназначено завоевать Царьград, а затем и Иерусалим, где он сотворит чудо и будет признан жителями Иерусалима «царем своим богом».
Антихрист, лжемессия, тоже может творить чудеса. Но через три с половиной года явится истинный Спаситель, сокрушит Антихриста и свершится Страшный суд.
Дело в данном случае не в оценке деяний Петра, а в том, что они меряются самой высшей мерой – чрез них должны наступить Страшный суд и конец света.
Петровская эпоха, с болью, с кровью выбиравшаяся из плотного и вязкого бытового и психологического пространства Московской Руси, была последней эпохой в истории Российской империи, насыщенной библейскими реминисценциями, создававшими смысловой фон событий. Грубая военизированная европеизация вытеснила своей рациональностью ветхозаветный текст с его метафоричностью на глубокую раскольничью периферию.
Именно ветхозаветная грандиозность отвечала существу происходившей жизненной ломки.
Одиннадцатая глава Книги Бытия содержит один из самых мощных и загадочных сюжетов Священного Писания – драму Вавилонской башни.
«И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого».
Возвести башню до неба могла только единая человеческая общность – «…один народ, и один у всех язык… и не отстанут они от того, что задумали делать». Как только общность распалась, сменившись многообразием, исчезла и гибельно-героическая энергия. Это осознавал Господь, и это понимал Петр. И помимо прочего, его титанические усилия были направлены на создание этого единства, которое и должно было обеспечить успех возведения его «башни до неба».
В известном смысле он этого достиг. Во всяком случае, Пушкин считал, что одна из задач на этом пути была Петром решена. – «История представляет около его всеобщее рабство 〈…〉 все состояния, окованные без разбора, были равны перед его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось»
Ознакомительная версия. Доступно 27 страниц из 135