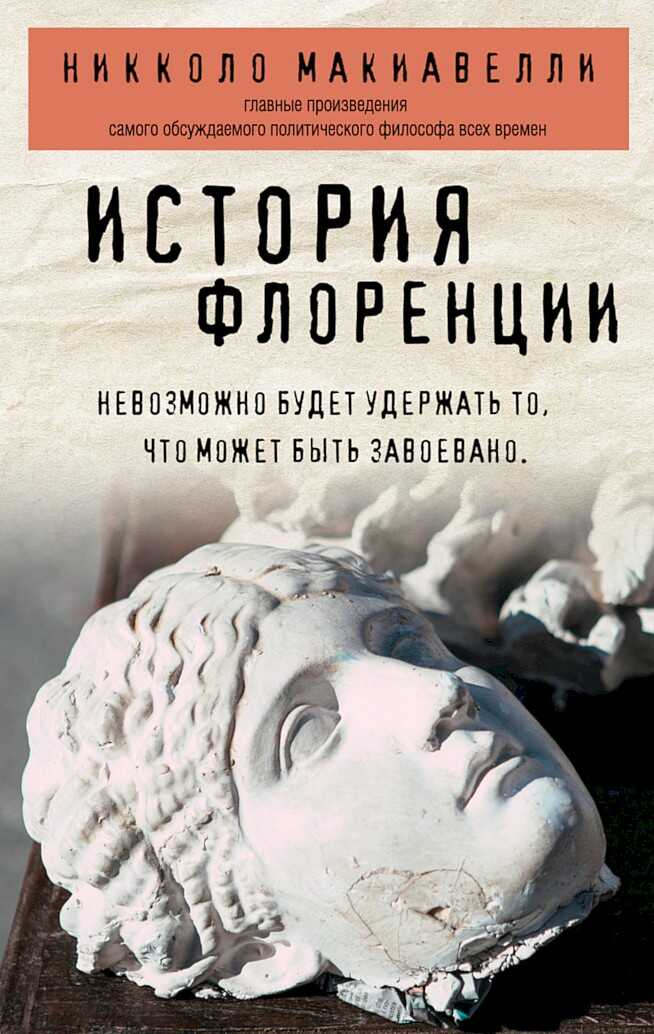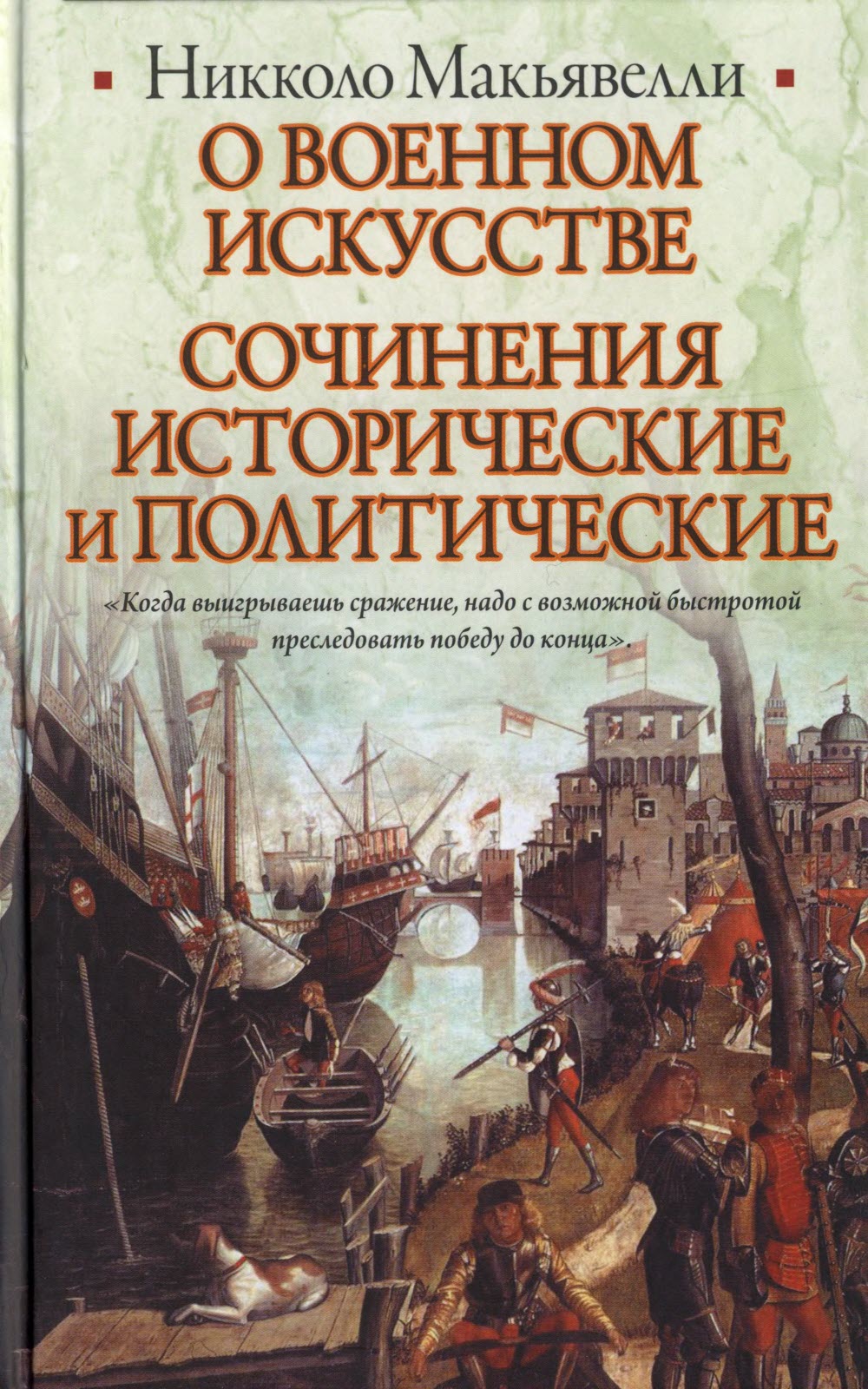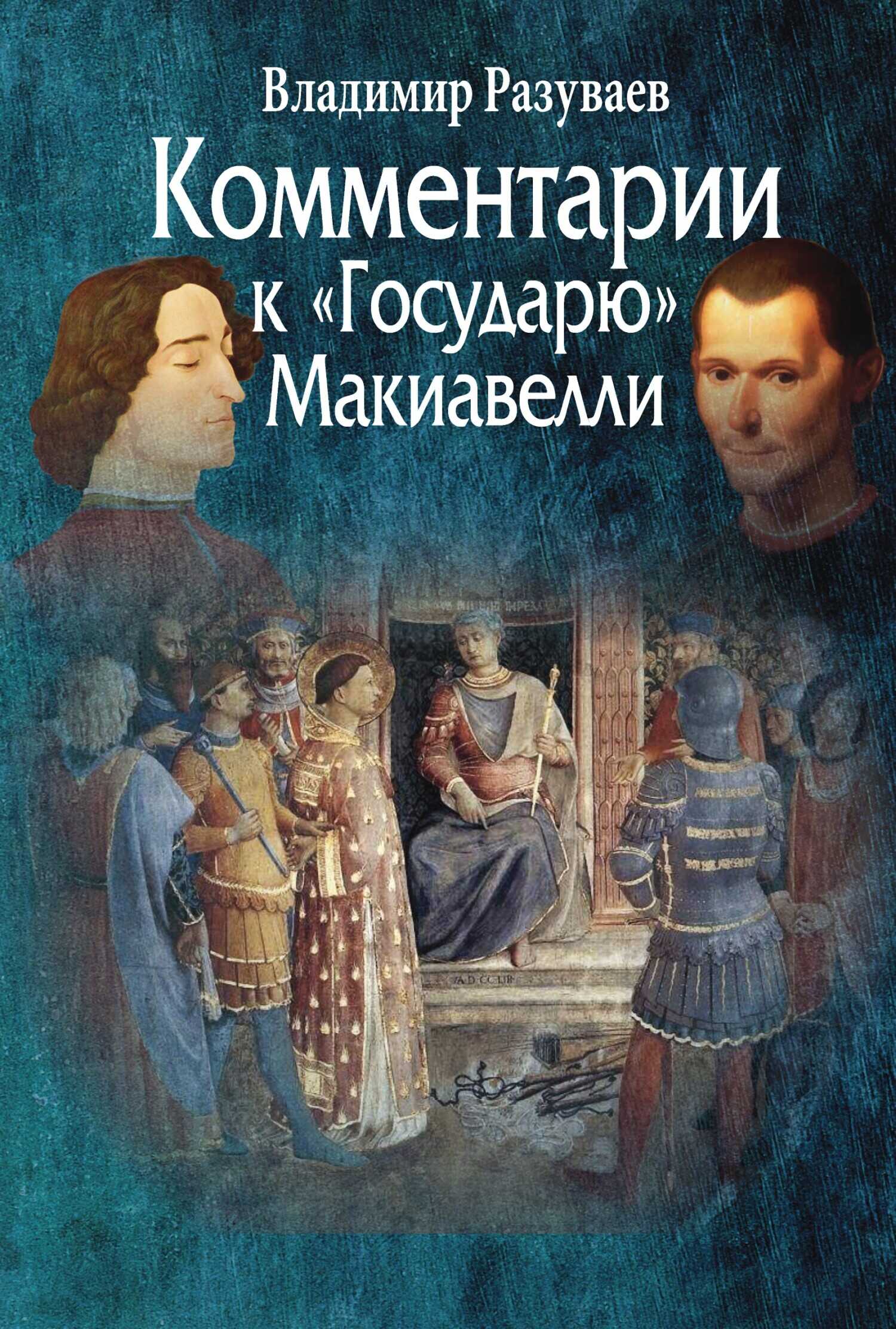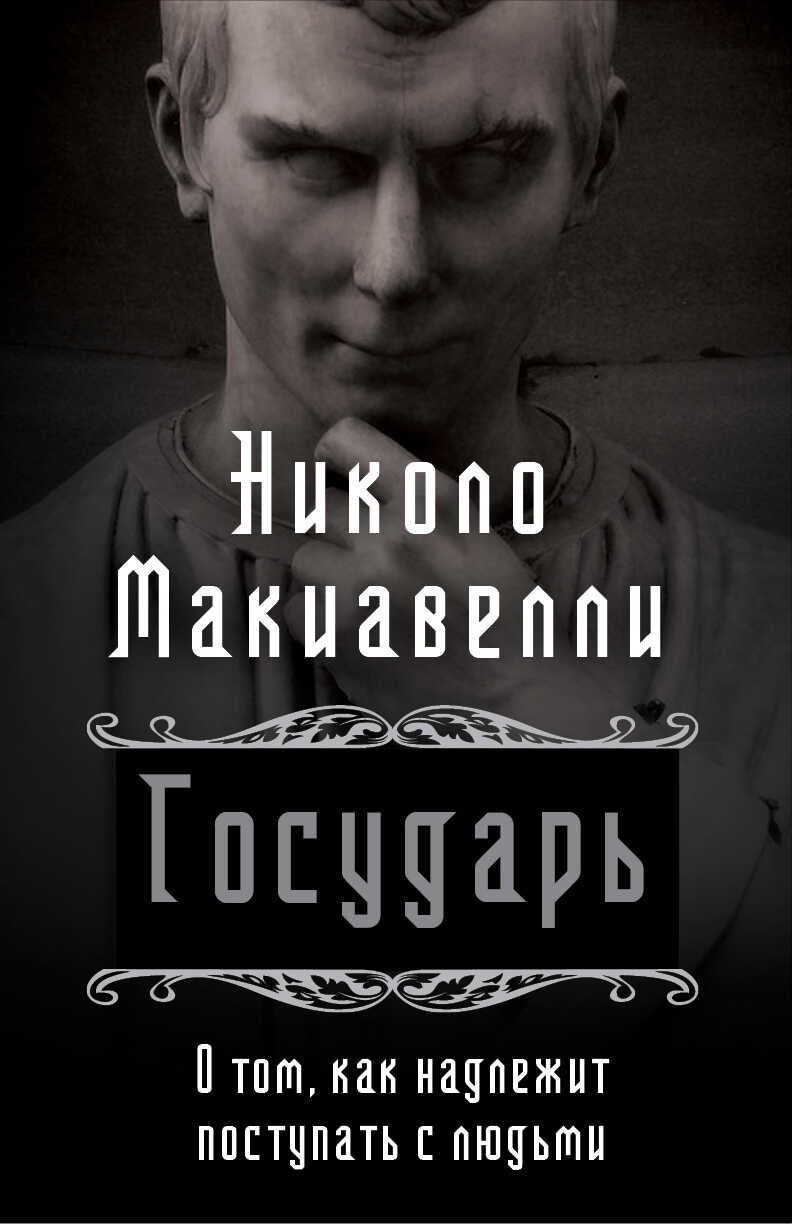быть скупым, но и не впадать в расточительность. В последнем случае это немного напоминало принципы современной баллистики, в которой для того, чтобы попасть в яблочко, ведется постепенная пристрелка, позволяющая определить точное положение цели. Сначала делается недолет, а затем перелет, и попытки, повторяемые снова и снова, наконец позволяют поразить желанную мишень. В теории гуманистов промахам соответствуют пагубные поступки, а попаданию – добродетельные.
Однако Макиавелли уже не рассматривает прошлое как сборник забавных историй, призванных стать эмпирической иллюстрацией умозрительных философских доктрин. Напротив, историки становятся для него естественными собеседниками – но не из-за ярких сентенций или добродетельных деяний, прославленных в их произведениях. Причина в том, что их повествования дают читателю возможность поупражняться в хитроумном разыгрывании политических ролей – ситуация за ситуацией, гипотеза за гипотезой. Почему в определенный момент события приняли тот или иной оборот? Как можно было избежать нежелательного исхода, если, конечно, его вообще можно было избежать? Чему может научить современных политиков сравнительный анализ явлений, пусть и отдаленных во времени и пространстве, но имеющих схожие закономерности? Именно эти вопросы лежат в основе размышлений Макиавелли как в «Государе», так и в «Рассуждениях». Но в последнем произведении такой метод становится более явным благодаря подробному анализу повествования Тита Ливия.
Исторические сочинения древних греков и римлян помогают Макиавелли исследовать то, что в современной философской терминологии называется «контрфактуалами» – условными высказываниями, противоречащими фактам. Этот малоизученный аспект его методологии очень важен, в том числе потому, что в античную эпоху политические мыслители, в отличие от историков, обращались к этому средству крайне редко – или, возможно, даже никогда. Однако трактаты Макиавелли, напротив, полны предположений о возможном развитии событий, которые привели к определенным последствиям, но вполне могли закончиться иначе. Пример тому – не менее двадцати двух отрывков в «Государе» и более ста в «Рассуждениях», которые было бы несложно отобразить на бумаге в виде наших привычных блок-схем. Хотя, возможно, современники Макиавелли скорее вспомнили бы о некоторых логико-риторических приемах, заимствованных у античных философов и по-прежнему популярных в эпоху Возрождения, например о «древе Порфирия». Давно приученный практическим опытом рассматривать все возможные варианты в поисках «наименьшего зла», Макиавелли применяет тот же метод к прошлому, поскольку, по его мнению, дела минувшие могут чему-то научить только в том случае, если можно представить себе их альтернативное завершение. А именно так их воспринимали политические деятели того времени, когда ход событий еще оставался неясным.
Для того чтобы снова внести элемент неопределенности в то, что уже случилось и чего уже никак не изменить, Макиавелли считает необходимым провести сложный мысленный эксперимент. Он воссоздает варианты выбора, возникавшие в том или ином случае, но при этом использует прекрасную осведомленность тех, кто оценивал и анализировал эффективность принятых решений в ретроспективе. Бессмысленно как восторгаться победителями, так и порицать или жалеть проигравших, если не понимаешь, почему все произошло именно так, а не иначе. К тому же это не позволяет определить точный момент, когда течение событий было определено принятым решением – верным либо неверным, а значит, достойным подражания или недопустимым. Если не провести подобный эксперимент, то мы рискуем воспринять прошлое подобно «антиквариям» или «эстетам», и именно такой подход Макиавелли осудит в «Рассуждениях» (а позднее – и в книге «О военном искусстве») как бесплодную форму восхищения великими деяниями древних.
В политической мысли минувших лет контрфактические исследования почти полностью отсутствуют, однако в историографии, как древнегреческой, так и древнеримской, они встречаются довольно часто. Первое подобное рассуждение мы находим еще у Геродота, который пытался представить, как бы все сложилось, если бы афиняне отказались противостоять армии царя Ксеркса и сдались на милость персов или покинули свой город (История 7.139). Этот метод широко использовали все великие авторы, от Фукидида до Тацита; в ряду «виртуозных соло» можно упомянуть и мысли самого Тита Ливия о том, что произошло бы, если бы Александр Македонский решил атаковать не Персию, а Рим (История Рима от основания города 9.17–19). Тем не менее Макиавелли был первым политическим мыслителем, у которого подобные допущения стали одним из характерных интеллектуальных приемов, и только благодаря ему размышления о «несбывшемся прошлом» со временем превратились в привычный инструмент политического анализа.
Изучение Древнего Рима открывало особые перспективы для постижения тайных законов истории. Тит Ливий раскрыл перед нами опыт города, который достиг совершенства в искусстве отражения неожиданных угроз, неизбежно встающих перед любым обществом, – как внешних, так и внутренних. Иными словами, если изучение прошлого всегда ценно тем, что позволяет заранее задуматься над важными вопросами, то у Ромула и его потомков имеется одно существенное достоинство: они почти всегда находили правильные ответы. Именно поэтому, по мнению Макиавелли, ни один другой город не был достоин столь пристального внимания.
Выбор Макиавелли в пользу Тита Ливия оказался решающим. Прежде политические мыслители эпохи гуманизма стремились восстановить античную философскую традицию и создать произведения, способные соперничать с эталоном как по форме, так и по содержанию, и в лучшем случае либо пытались при помощи примеров из современной истории «обновить» непреходящую политическую мудрость, исходящую в основном от Аристотеля и Цицерона, либо досконально прорабатывали категории, предложенные древними мудрецами. Например, Джованни Понтано в ряде своих трактатов хотел «канонизировать» гражданские добродетели, не до конца исследованные античными авторами, такие как стойкость, великолепие и праздность, и для этого рассматривал их в аристотелевском духе. Макиавелли, напротив, пренебрегает столь почитаемыми философскими трудами и обращается к практической мудрости римлян – к основам правления, сделавшим их владыками Средиземноморья. Римский политический опыт восхваляли и ставили превыше абстрактных учений уже Тит Ливий (История Рима от основания города 26.22) и Цицерон (Тускуланские беседы 1.1.1–2). Иногда так же поступали гуманисты – скажем, антикварий Флавио Бьондо, Франческо Патрици и Бернардо Ручеллаи. Однако Макиавелли намного настойчивее, чем кто-либо иной, привлекает внимание к приоритету практических знаний и приводит этот аргумент в поддержку новой политической теории, основанной на контрфактическом анализе причин, приведших к успехам или неудачам. Он рассуждает о внешних и внутренних делах, о социальной динамике и развитии общественных институтов, об экономических и религиозных факторах и тем самым дает нам всестороннее, несравненное в своей сложности объяснение того, как Древний Рим достиг вершин, – иными словами, если применить термин, которым пользуются теоретики и историки наших дней, воссоздает «большую стратегию», высший уровень государственного управления, при котором учитываются сразу все элементы для реализации долгосрочных планов и обеспечения национальной безопасности.
Если применить неологизм, позже придуманный (не для Макиавелли) французским политическим мыслителем Жаном Боденом в его произведении «Метод легкого познания истории»[20] (1566), то «Рассуждения» – это работа настоящего philosophistoricus, «философа-историка». Она ознаменовала переломный момент в развитии политической науки еще и потому,