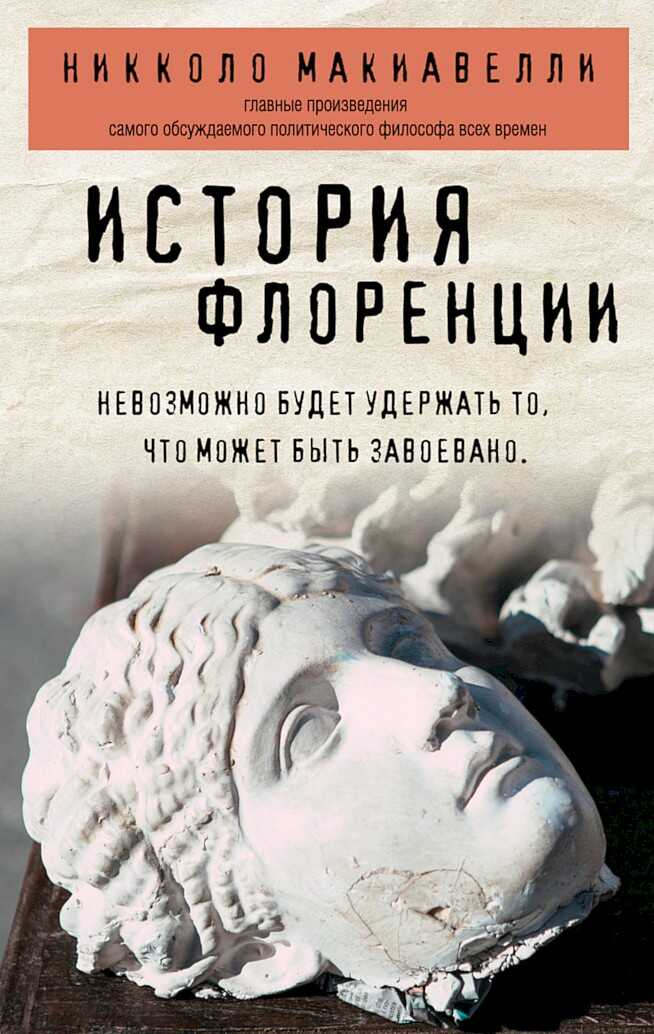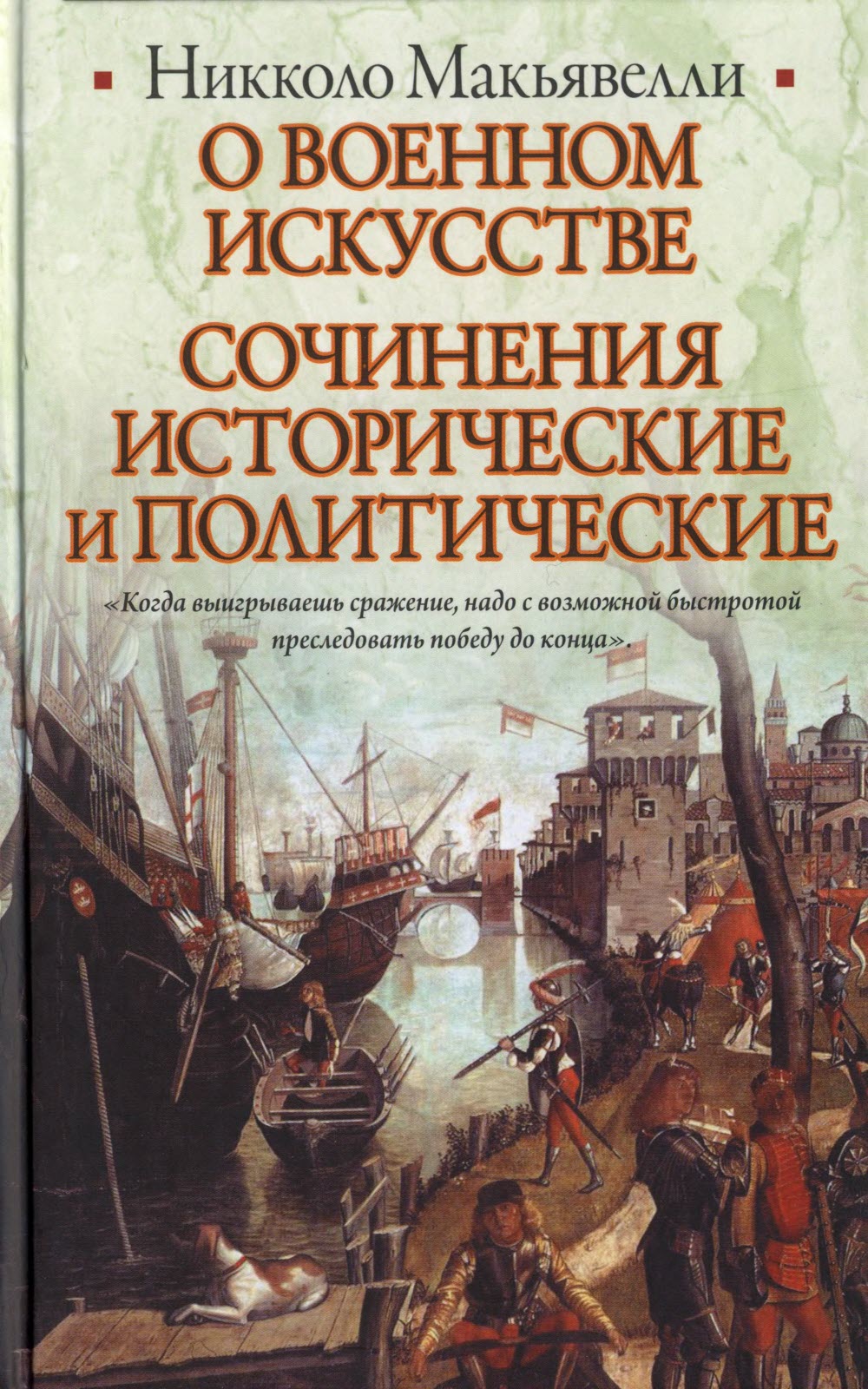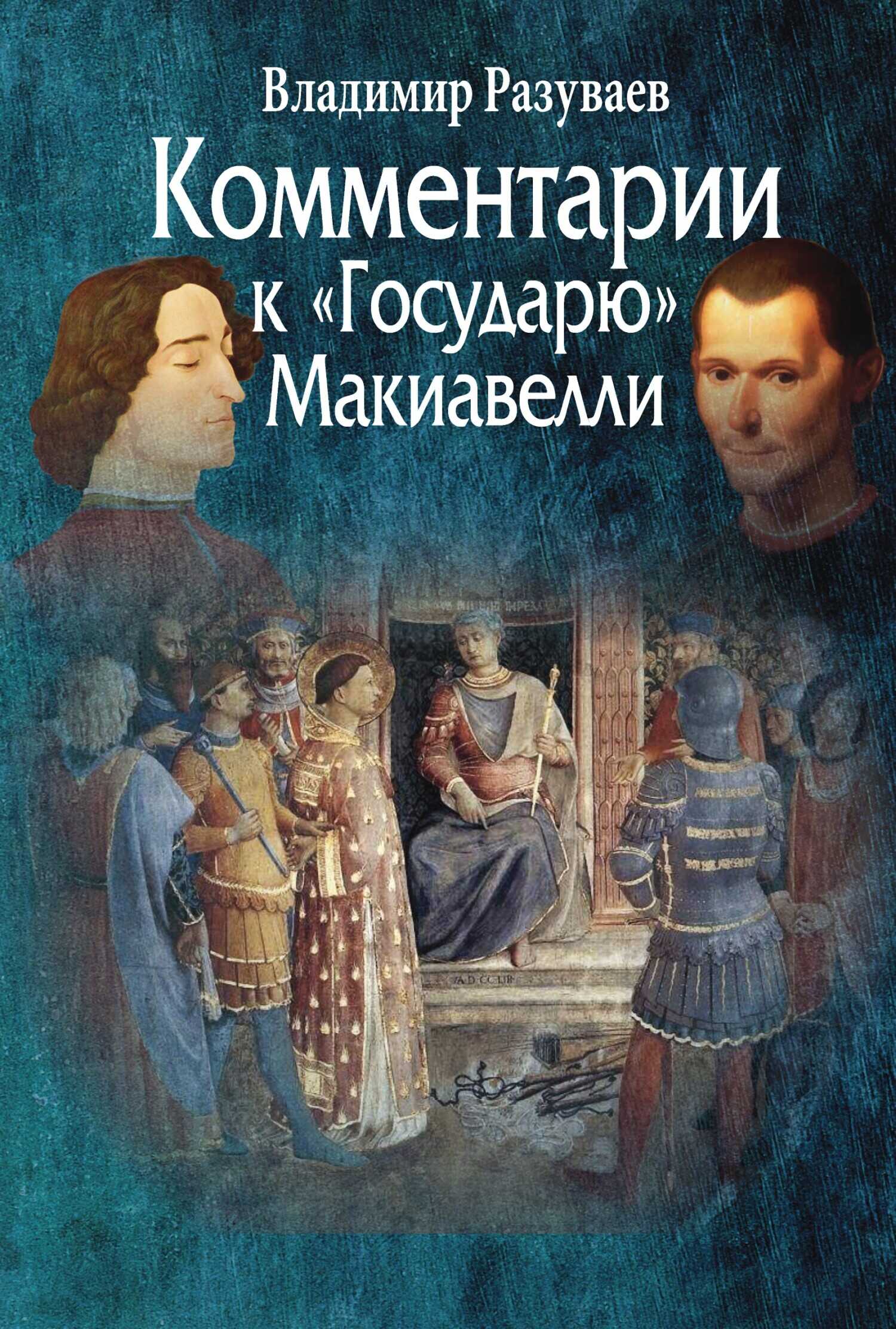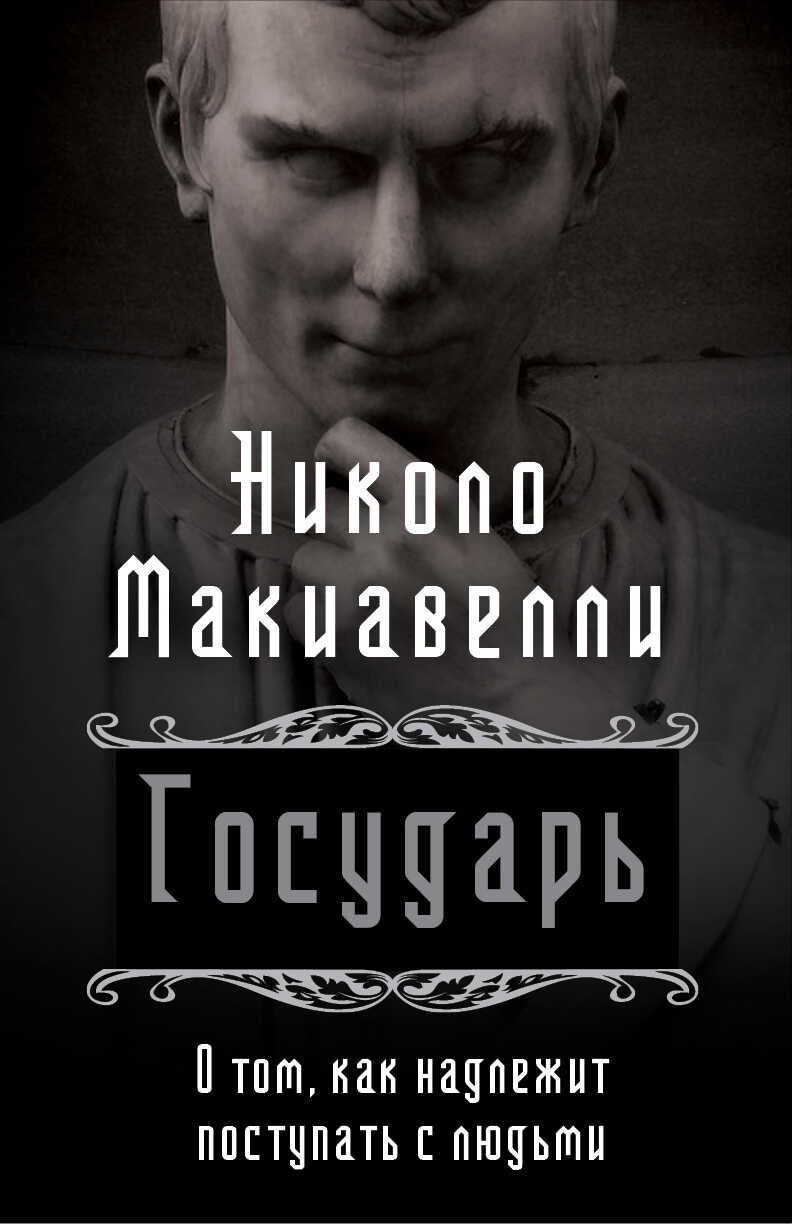что, восхвалив сметливость римлян и в то же время отвергнув классическую философскую традицию, заложила основу для современного отделения политических философов, предлагающих ценности или нормы, от политологов, ведущих политические дискуссии, свободные от оценочных суждений. В любом случае один вывод особенно очевиден: прославленный реализм Макиавелли во многом связан с тем, что он пошел по плодотворному пути и выбрал историю, а не бесплотные предположения.
«Рассуждения» как «форма дискурса»
Значение «Рассуждений» в истории политической мысли зависит не столько от их содержания, сколько от беспрецедентного метода прочтения, примененного Макиавелли. Если «Государь» принадлежит к определенному литературному жанру с кодифицированной традицией, то «Рассуждения» не имеют предшественников – подобный труд, предполагающий внимательное и пристальное чтение трактуемого текста, отличался от любых комментариев, какие только существовали в то время и прежде. Макиавелли совершенно по-новому относится к истории, видя в ней главный источник политической проницательности. Такие воззрения заставляли по-новому взглянуть на сочинения античных авторов, и именно этим больше всего восхищались первые читатели «Рассуждений». Этот труд позволил возникнуть новому жанру, ставшему одним из главных в политической мысли раннего Нового времени; мы можем назвать его «формой дискурса». Друзья и современники Макиавелли довольно скоро осознали значение этого революционного труда, в котором, несмотря на неизменное почитание античных деятелей и их свершений, появились новаторские суждения о политике. Вот что сказал о комментариях Макиавелли флорентийский историк Якопо Нарди – тоже частый гость садов Ручеллаи – в своей «Истории Флоренции», опубликованной посмертно в 1582 году: «Тема этого произведения, безусловно, нова, и, насколько мне известно, подобной работы никогда не предпринимал никакой другой автор».
Нет лучшего способа проверить это смелое утверждение, чем сравнить «Рассуждения» с похожими литературными трудами, которые широко читались в те времена. В начале XVI века литературный жанр комментария допускал только три варианта, и книга Макиавелли не соответствует ни одному из них. К первой модели относились схоластические толкования творений греческих философов, прежде всего Аристотеля, и арабских мудрецов, а также глоссы к таким шедеврам, как «Божественная комедия» Данте Алигьери, или к многотомным собраниям, примером которых может стать Corpus iuris civilis – свод римского права, составленный при византийском императоре Юстиниане в VI веке. Такие комментарии легко опознавались по размерам и формату: они представляли собой большие тома, где по центру страницы был напечатан оригинальный текст, а на полях методично приводились примечания мелким шрифтом. Поскольку священнослужителей и университетских профессоров, как правило, интересовал буквальный смысл «каноничнейших» текстов, к которым давался комментарий, они считали, что в первую очередь должны донести до студентов и очень узкого круга избранных читателей содержание этих произведений, для чего требовался дословный пересказ. Кроме того, в юридических, а иногда и в философских трактатах добавлялись перекрестные ссылки на другие отрывки и книги, способные лучше раскрыть суть текста, а если предметом обсуждения становилась «Божественная комедия» и великие творения, подобные ей, то на страницах могли появиться и аллегорические толкования.
Позже благодаря усилиям гуманистов появилась другая, но не менее авторитетная модель: филологические «поправки», castigationes. Этот новый вид комментариев не воспроизводил и не перефразировал оригинальный текст, который полагалось искать в другом месте. Более того, такие комментарии предназначались для иного. Античные произведения дошли до современных читателей в искаженном виде, поэтому филологи проверяли и исправляли древние манускрипты, делая их удобочитаемыми и понятными в соответствии со своими текстуальными догадками, а также добавляли разъяснения, которые касались древних ритуалов, мифологических аллюзий, минувших событий, принятых законов, личности того или иного деятеля… Впрочем, различие состояло не только в том, что акцент в таких комментариях делался на лингвистике, стилистике и исторических вопросах. В университетах разбирали все произведение построчно, в то время как гуманисты, внося свои «поправки», напротив, действовали избирательно, гибко, не стремились проработать весь текст и допускали внесение изменений, поскольку не останавливались на каждом отрывке, а обсуждали только проблемные моменты даже в том случае, если таких замечаний и исправлений оказывалось бесчисленное множество. К примеру, труд Эрмолао Барбаро «Поправки к Плинию» (Castigationes Plinianae, 1492) содержит не менее пяти тысяч филологических исправлений к «Естественной истории» – энциклопедии, написанной в I веке Плинием Старшим.
Примером третьей модели станет прежде всего первая центурия «Смеси» (Miscellaneorum centuria prima, 1489) – новаторский труд Анджело Полициано, опубликованный по настоянию его покровителя, Лоренцо Медичи. Полициано был тонким поэтом и филологом, и отчасти его книга – это текстологический труд, выдержанный в духе гуманистических «поправок», пусть даже в нем нет ни порядка, ни системы и он повествует сразу о многих авторах, отчего возникает впечатление, что Полициано, создавая свои тексты, решил уподобиться бабочке, беспечно перелетающей с цветка на цветок. Однако это не единственное отличие. Подражая «Аттическим ночам» древнеримского писателя Авла Геллия – многотомному труду из двадцати книг, написанному во II веке и широко читаемому в эпоху Возрождения, – Полициано разбивает свои «поправки» на сто самостоятельных глав, посвященных самым разным темам, а лингвистические и текстуальные трудности рукописей, исследованию которых он посвятил свою жизнь, становятся предлогом для обсуждения широчайшего круга вопросов из самых разных областей – от театра до философии, от астрономии до политики, от нумизматики до архитектуры, от живописи до религии. Сборник Полициано оставил большой след во флорентийской культуре. Позднее один из самых одаренных его учеников, Пьетро Риччи, более известный как Кринито, – к слову, тоже с ранних пор посещавший сады Ручеллаи, – создал по примеру «Смеси» свое произведение «О наставлении в добродетели» (De honesta disciplina, 1504) и даже внес радикальные изменения в прототип, сократив филологические дискуссии и уделив больше места этическим и политическим вопросам.
Какое место занимают «Рассуждения» среди этих альтернатив? В общем-то, никакое, поскольку, как уже отмечалось, Макиавелли ввел совершенно новую форму интерпретации. Если говорить о структуре, то в «Рассуждениях» нет текста Ливия – и этим они отличаются от университетских комментариев, где авторский текст присутствовал непременно. Кроме того, Макиавелли весьма избирательно подходит к выбору фрагментов, предназначенных для обсуждения. В этом он следует модели «поправок», столь привычных для гуманистов, – однако, в отличие от последних, не проявляет интереса ни к изучению грамматических исключений, ни к рассмотрению мифологических отсылок, ни к поиску наиболее подходящих версий религиозного обряда. В противовес филологам, Макиавелли обращает внимание на внетекстовые факты и заимствует из «Истории» Тита Ливия богатейший источник политической мудрости: «профессиональные секреты» в военном деле и государственном управлении. Если же сравнить «Рассуждения» с трудами Полициано и Кринито, то мы увидим, что Макиавелли не только избегает критики текстов, но и анализирует одно-единственное произведение, поэтому все сто сорок две главы его труда развивают единую линию аргументации – и в этом радикально расходятся и с сотней независимых микроэссе, составляющих первую центурию «Смеси», и с очерками Кринито, которых