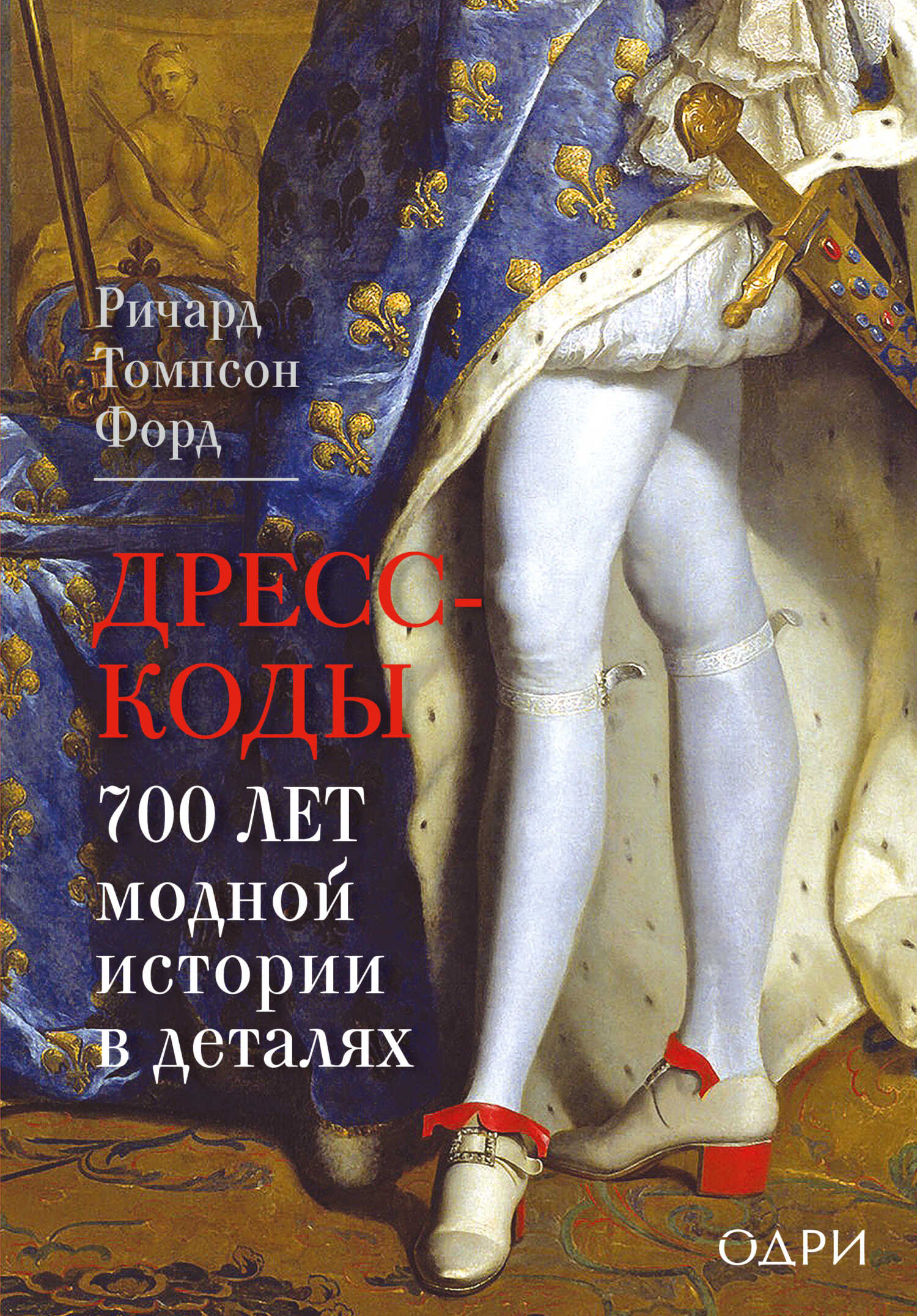речь далее.
14
Здесь и далее в данном разделе приводятся некоторые положения, высказанные ранее в статье: Гусарова 2021а.
15
Ср. высказывание на этот счет самого Дарвина: «Мы почти вынуждены смотреть на специализацию или дифференцировку частей и органов как на лучшее или даже единственное мерило прогресса, ибо при таком разделении труда наилучшим образом выполняются все телесные и психические отправления» (Дарвин 1941: 31).
16
В контексте селекции как вырождение также описывается результат свободного скрещивания между животными различных пород, которые у Дарвина именуются «расами», что позволяет автоматически перенести соответствующую негативную оценку на смешанные браки и союзы у людей: «Последние факты напоминают нам о наблюдениях, которые так часто делают путешественники во всех частях света, что человеческие метисы стоят на низком уровне и имеют свирепый нрав <…> низкий уровень столь многих метисов отчасти зависит от реверсии к первоначальному дикому состоянию, вызванной скрещиванием, даже если главной причиной низкого уровня являются неблагоприятные нравственные условия, при которых они обыкновенно появляются на свет» (Дарвин 1941: 321).
17
В этом вопросе с Дарвином могла бы согласиться известная изготовительница корсетов (как модных, так и ортопедических) Рокси Каплин, настаивавшая на необходимости упражнений для развития спинной мускулатуры. См.: Caplin 1864.
18
Наброски к этому разделу были представлены в рамках научного семинара «ИВГИ за письменным столом» 1 апреля 2021 года. Я благодарна коллегам за вопросы и комментарии к моему докладу.
19
Джордж Дарвин делит пережитки в одежде на два типа: декоративные, связанные с «модным отбором», и некогда функциональные, но утратившие практический смысл (Darwin 1872: 410).
20
Этот фрагмент, как и заключительная часть предложения, где упоминаются шляпные коробки, был опущен в первом русском переводе книги Тайлора (1873), переиздававшемся до конца советского периода, см.: Тайлор 1989.
21
Фактически, суть статьи Джорджа Дарвина резюмируется у Тайлора в одном предложении: «Исторические описания костюмов, показывающие, как известная часть одежды постепенно удлинялась или укорачивалась и переходила в другую, иллюстрируют очень ярко процессы изменения, роста, оживания и уничтожения, происходящие из года в год в важнейших жизненных предметах» (Тайлор 1989: 29).
22
Я благодарна С. П. Шаталовой за консультацию по вопросам эволюционной теории, в частности в оценке длительности эволюционных процессов.
23
Например, американский антрополог Рут Бенедикт в 1931 году писала в своей статье об одежде для «Энциклопедии социальных наук»: «Для западной цивилизации существует устойчивая ассоциация между одеждой и сокрытием половых органов, но литература, посвященная происхождению человеческого платья, преимущественно использует имеющиеся в распоряжении авторов многообразные факты, чтобы опровергнуть предположение о первичности этой связи и подчеркнуть, что одежда отнюдь не обязана своим возникновением специфическому инстинкту стыдливости, сосредоточенному на репродуктивных органах» (Benedict 2003: 30).
24
Вольфганг Кёлер (1887–1967) – один из основателей гештальтпсихологии, автор авторитетной работы об интеллекте высших приматов (1917).
25
Так, Чарлз Дарвин отмечал, что токующие самцы нередко красуются друг перед другом, а павлин может демонстрировать великолепие своего хвоста даже домашним птицам или свиньям (Дарвин 1872: 95), однако рассматривал это как своего рода репетицию главного представления – брачных игр.
26
Э. Б. Тайлор отмечал распространенность подобных объяснений мифов о хвостатых людях и, как представляется, вполне справедливо указывал на несостоятельность наивной рационализации того, что, очевидно, являлось не случайной ошибкой, а преднамеренной стратегией дегуманизации: «Исследователь, наталкивающийся в какой-нибудь местности на рассказы о людях с хвостами, должен отыскивать какое-либо презираемое туземное племя, каких-нибудь отверженных или еретиков, живущих около или среди господствующего населения, которое смотрит на них как на животных и сообразно с этим приписывает им хвосты» (Тайлор 1989: 186).
27
Ранние попытки совместить идеи Дарвина и Веблена в публицистике и художественной прозе Шарлотты Перкинс Гилман подробно рассматриваются в следующих частях книги.
28
Я отсылаю к концепции «мужского взгляда», впервые изложенной в статье Лоры Малви «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» (Mulvey 1975) и к настоящему моменту укоренившейся в визуальных исследованиях, феминистской и гендерной теории.
29
Для лаконичного указания на непреодолимые противоречия между высказываниями Дарвина Уильям Лезердейл ввел полезную оппозицию «Дарвин1/Дарвин2»: «один – самокритичный и строгий поборник биологической теории, другой – искусный ритор и пропагандист. Дарвин1 склоняется к атеистическому материализму. Дарвин2 порой не чужд спекуляций и литературных эффектов, неосторожен и даже небрежен в своих заключениях. Дарвин1 и Дарвин2 не согласны друг с другом. Иногда, особенно в записных книжках, они находятся между собой в диалоге» (Leatherdale 1983: 4).
30
По авторитетному мнению биолога и историка науки Эрнста Майра, «любой, кто пишет о „дарвиновской теории эволюции“ в единственном числе <…> не в состоянии компетентно судить о предмете» (Mayr 2000: 8). В то же время сам Дарвин «рассматривал все компоненты своей теории как единое и неделимое целое» (Ibid.: 505).
31
Рога в качестве «ментального наследия» могут показаться курьезным, если не анекдотическим примером, однако общая идея Блисс подтверждается эволюционной биологией второй половины XX века, рассматривающей генетическую программу современных организмов, в том числе человека, как «результат исторического процесса, который восходит к моменту зарождения жизни на земле и тем самым включает в себя „опыт“ всех поколений предков» (Mayr 2000: 56).
32
В свою очередь, Эрнст Майр отводит Лейбницу особую роль в развитии биологического мышления как одному из первых философов, отошедших от абстрактных типологизирующих категорий в пользу признания неповторимой индивидуальности каждой сущности (Mayr 2000: 46).
33
Как отмечает Эрнст Майр, впоследствии, столкнувшись с пелорическими мутациями цветов, Линней отрекся от идеи неизменных видов, которую выражал таким образом, и даже вычеркнул эту фразу из собственного экземпляра «Ботанической философии» (Mayr 2000: 259). В каком-то смысле сходный путь проделал Кювье, в молодости также считавший, что «природа не делает скачков» (Appel 1987: 32), а затем, как известно, укрепившийся в противоположном мнении.