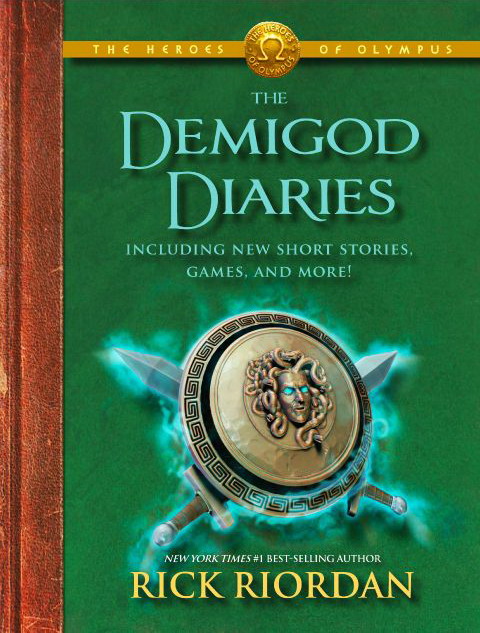Ознакомительная версия. Доступно 28 страниц из 136
«re'āyā [народ] чувствовал себя в комфорте под его защитой; из того капитала, что он вложил, каждый извлек прибыль».
Период губернаторства османских принцев по замыслу служил как проверкой их лидерских способностей[80], так и плацдармом для их последующих попыток захватить власть в империи. Некоторые должности, конечно, были более прибыльными, престижными и выгодными, чем другие; близость к столице зачастую была самым большим преимуществом, которое мог иметь сын. Из трех старших выживших сыновей Баязида Ахмед занимал пост бейлербея Амасьи, самого ближайшего к Стамбулу города. Коркут, будучи бейлербеем сначала санджака Сарухан (со столицей в Манисе), а затем санджака Теке в Западной Анатолии, находился не на много дальше от Стамбула, чем Ахмед, но обе эти должности не имели такого престижа, как губернаторство в Амасье. Этим жестом, а также учитывая, что Селим был отправлен в самый отдаленный город империи, Баязид ясно дал понять, кого он больше всего предпочитает в качестве наследника.
Селим превратил этот недостаток в преимущество. Если бы он надеялся бросить реальный вызов своим сводным братьям, ему потребовалась бы военная сила, независимая от янычарского корпуса. Скрываясь от посторонних глаз в далеком Трабзоне, он собрал разношерстную коалицию, в которую вошли выскочки, изгнанники из других государств, недовольные солдаты, те, кто был переведен на имперскую военную службу, лидеры различных этнических групп по всей Анатолии и члены семей его домочадцев.
Семьи шехзаде, состоящие из жен, наложниц, детей, советников, наставников и элитных солдат, создавали для будущего претендента на престол связи, охватывающие всю империю. Каждое звено было важным в сложной сети полунезависимых провинций, поскольку различные шехзаде стремились получить преимущество над своими соперниками, оказывая услугу за услугу и заключая сделки. Селим, которому на тот момент было около 25 лет и который носил впечатляющие усы, ставшие вскоре его визитной карточкой, создал, как и другие потенциальные наследники, то, что можно было бы назвать «стажерскую империю»: миниатюрный аналог дворца Топкапы в комплекте с советниками, слугами, военными чиновниками и гаремом, и все это в провинциальном Трабзоне. Учитывая географическую удаленность своей вотчины в отдаленной Восточной Анатолии, Селиму больше, чем его соперникам, требовалась исключительно сильная семья, обладающая независимым духом, связями по всей империи и нерушимыми узами лояльности. Поскольку Селим был бейлербеем Трабзона почти 25 лет, прожив там дольше, чем в любом другом месте в своей жизни, он смог наладить прочные и длительные связи. По идее, из-за регулярной ротации провинциальных правителей так не должно было быть[81], но султан никогда не выгонял Селима из Трабзона, считая, что худшего места для сына не найти. Баязид явно не боялся Селима – роковая ошибка, которая впоследствии ему дорого обошлась.
* * *
Одним из столпов поддержки Селима было его партнерство с некоторыми часто подвергаемыми критике этническими меньшинствами империи. В приграничных районах Трабзона Селим осознал острую необходимость сотрудничества с влиятельными группами меньшинств этого региона – не только для успеха всего имперского предприятия на востоке, но и для своих собственных целей. Этот успех основывался на формуле того, что в XIX веке стало известно как «Реальная политика» (Realpolitik). Для процветания империи требовалась поддержка различных этнических групп, и этим же группам была необходима поддержка империи. Доминирующими этносами в Восточной Анатолии являлись курды и караманиды.
Задолго до времен Селима и даже по сей день курды составляли большинство населения в суровых высокогорьях Восточной Анатолии, Северного Ирака и Ирана. Несмотря на то что в основном они исповедуют ислам, родословная их идет еще с доисламских времен: курды, например, практикуют нанесение татуировок – обычай, официально запрещенный в суннитском исламе. Известные как всадники, поэты и мастера ткацкого дела, курды на протяжении веков и до сих пор сохраняют свою культуру, язык, кухню и самобытность. Поскольку курды могли склонить баланс сил в пользу любого государства, которое хотело править в долинах верхнего Тигра и Евфрата, османы были вынуждены с ними сотрудничать, однако обычно очерняли их, уничижительно называя их «горными турками» – неотесанными, некультурными, нецивилизованными и недостойными признания в качестве автономного сообщества со своей особой идентичностью.
За десятилетия пребывания в Трабзоне, недалеко от исторической родины курдов, Селим добился сближения с ними. Для сохранения власти и относительного спокойствия в регионе он заключил соглашения с курдскими вождями[82], предлагая им выгоду там, где другие османские чиновники предлагали меч. Взамен курды поклялись ему в верности. Кооперация почти всегда оказывалась более успешной, чем силовой метод, поэтому, как и во всех договоренностях, ранее достигнутых османами, Селим и различные курдские группировки заключили мирное соглашение, обещая максимальную взаимную выгоду. Вожди племен добились открытых линий связи с империей, финансовых вознаграждений и местных сфер автономии. Самым важным для Селима и его конечной целью было то, что курды предложили ему вооруженные людские ресурсы вне каналов имперского военного истеблишмента.
Как и курды, караманиды также почувствовали на себе гнет Османской империи, однако и в данном случае империя остановилась на стратегии кооперации, а не физического уничтожения. Вытесненные на запад из Центральной Азии, спасаясь от монгольских вторжений в XIII веке, караманиды были среди многих крупных племенных союзов Анатолии, которые сопротивлялись установлению османского владычества. Караманиды, гордившиеся своим среднеазиатским наследием и славившиеся быстрыми лошадьми и богато украшенными коврами, представляли собой устрашающие фигуры в характерных шлемах и с развевающимися бородами, когда неожиданно появлялись из-за горизонта. Их пристанищем был древний южно-центральный анатолийский город Ларанда, переименованный в Караман (город, известный своим вкусным йогуртом, который делают из молока местной породы овец). Караман стоял у подножия Таврских гор, недалеко от потухшего вулкана. Его самым выдающимся сооружением была крепость, впервые построенная в бронзовом веке (примерно 3000–1000-е годы до н. э.) и постоянно перестраивавшаяся с тех пор на протяжении всего римского периода до последней реконструкции, проведенной византийцами в XII веке. Территория, протянувшаяся более чем на 800 километров между Караманом и Трабзоном, была одной из самых суровых в Анатолии: крутые скалы, узкие горные перевалы, суровый ветер, мало съестной растительности. Несмотря на огромные препятствия, связанные с местностью и расстояниями, Селиму удалось заключить союз с караманидами, используя возможности сложной династической политики своей семьи.
Пятого сына Баязида, который был на четыре года младше Селима, звали Шахиншах. Похоже, он не желал трона и провел большую часть своей жизни – почти 30 лет – в безмятежном управлении провинцией Караман, в которую также входили важные города Конья и Кайсери. Подобно тому, как Селим заключал сделки с курдами, Шахиншах заключил союзы с племенным союзом караманидов[83]. Фактически он посвятил большую часть своего времени и
Ознакомительная версия. Доступно 28 страниц из 136