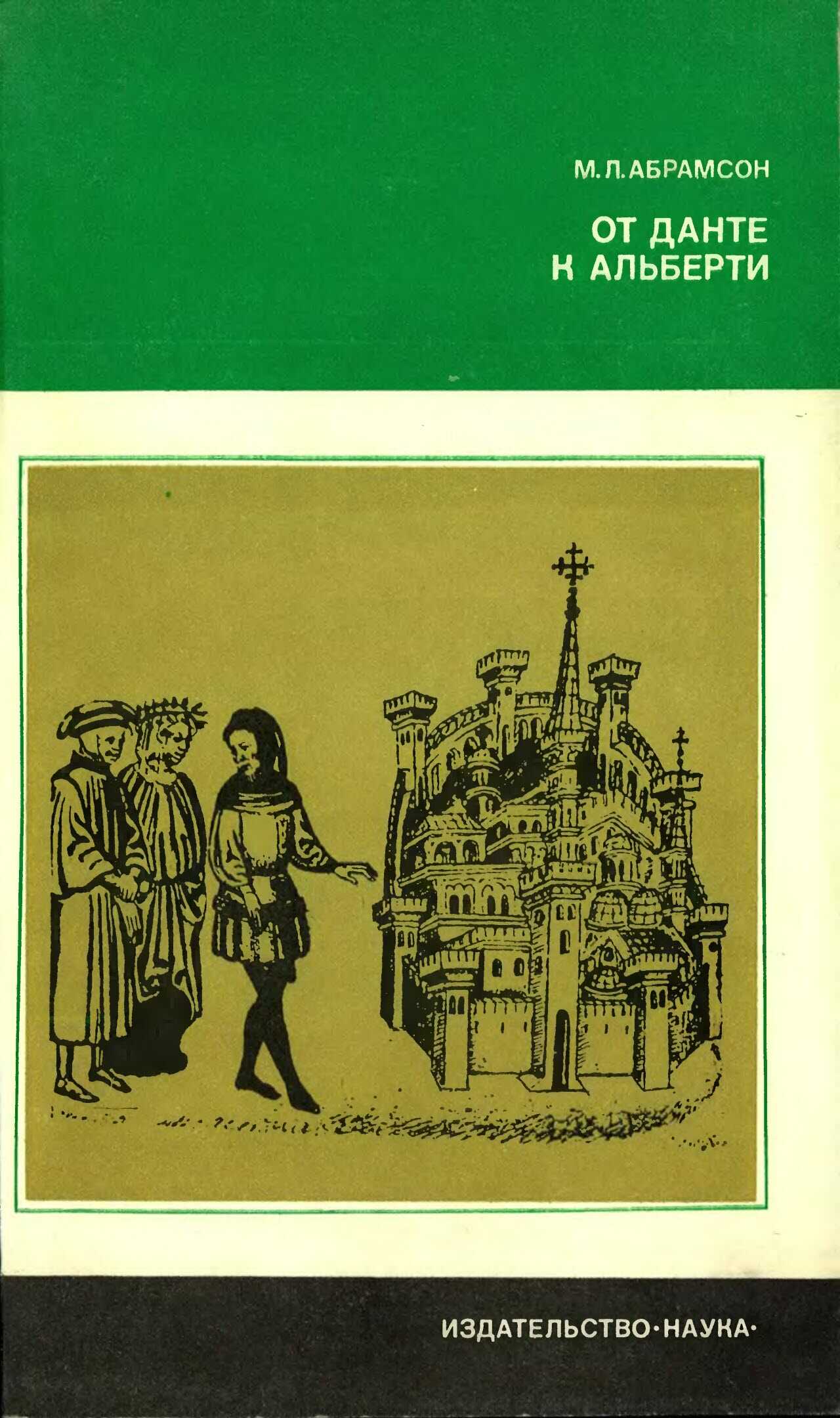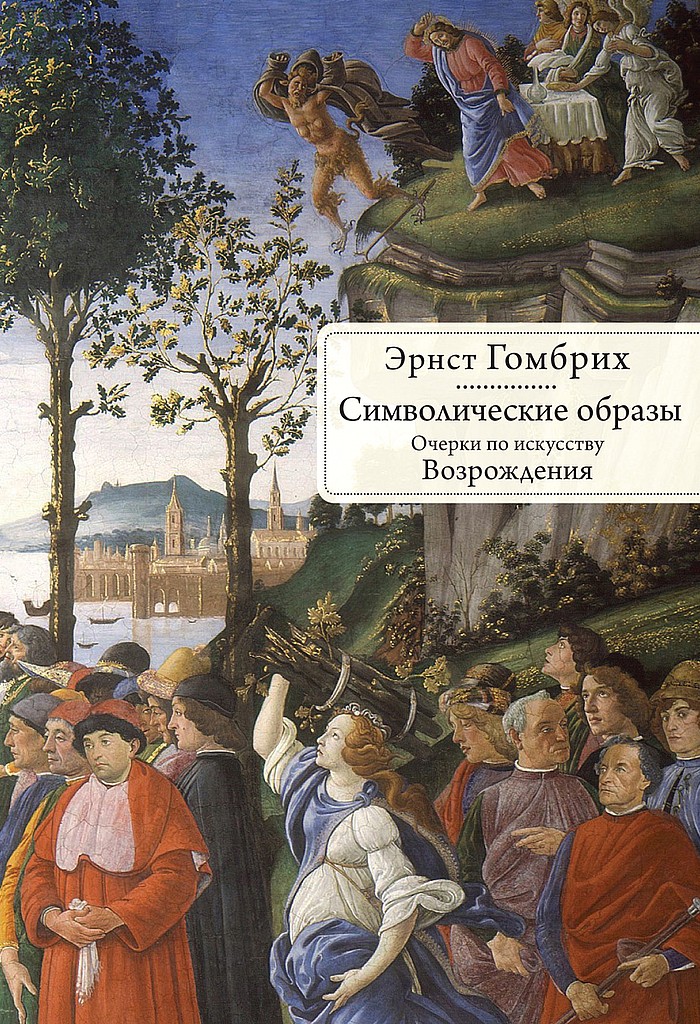Переводы с французского Пушкину удавались более чем переводы с итальянского и немецкого (английским тогда он в полной мере не владел). Выученный еще в детстве французский язык сопровождал его повсюду: на нем говорили, обменивались письмами, составляли бумаги, читали чиновники, и поэтому сочинить на французском языке стихотворные строки было нетрудно, весьма просто было и перелагать французские стихи на русский. Пушкин писал, как дышал, не стесняясь, перенося в свои произведения отдельные фразеологические формулы А. Шенье.
Б. Томашевский в знаменитой статье «Пушкин и французская литература»47 приводит строку Шенье из стихотворения «Au chevalier de Pange»: «Le baiser jeune et frais d ‘une blanche aux yeux noirs…», и дает русский перевод А. С. Пушкина. Сравните: «Порой беглянки черноокой / Младой и свежий поцелуй…». Те же строки из Шенье в иных переводах (Жуковский) выглядели длинным и скучным парафразом48. Пушкин же их переводит как бы играючи. Он как будто пассивно, послушно воспринимает стихотворную строку, но весьма творчески к ней относится.
В переводах европейской поэзии Пушкин чаще всего поступает, как поэты «Плеяды» поступали с античной и итальянской лирикой. Он, как и ученики Дора, пересоздает стихи чужих авторов на родном языке. Известно, что к поэтам «Плеяды» Пушкин относился критически; видимо, не зная их в полной мере, он предпочитал Ронсару и Дю Белле более ранних поэтов Дешана и Маро, однако по существу, перелагая французов, он делает то же самое, что делали французские эллинисты эпохи Возрождения. Впитывая (термин участников группы «Плеяда»— innutriton «впитывание») чужие стихи, он создает свои собственные, органично входящие в его речевой дискурс.
Особенно притягательным казался критикам (С. Беликовский, В. Шор) перевод стихотворения Андре Шенье «Слепец» (1823), поскольку, согласно Б. Томашевскому, этим переводом Пушкин не только хотел передать французский оригинал, но еще и подчеркнуть античную оболочку стихотворения, может быть, даже и добавить то, чего не было в подлиннике49 (9, 12). Этим стихотворение «Слепец» отличается от сделанных им в то же десятилетие других переводов из А. Шенье: «Ты вянешь и молчишь…» (1824), «Близ мест, где царствует…» (1827).
Вот пушкинский перевод стихотворения А. Шенье «Слепец» (отдельные слова выделены мною. — О. Т.):
(1) «Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий
(2) Внемли, боже кларосский, молению старца, погибнет
(3) Нине, если ты не предыдешь слепому вожатым».
(4) Рек и сел на камне слепец утомленный. — Но следом
(5) Шли за ним три пастыря, дети страны той пустынной,
(6) Скоро сбежались на лай собак, их стада стерегущих.
(7) Ярость уняв их, они защитили бессилие старца',
(8) Издали внемля ему, приближались и думали: «Кто же
(9) Сей белоглавый старик, одинокий старик, одинокий, слепой —
уж не бог ли?
(10) Горд и высок; висит на поясе бедном простая
(11) Лира, и голос его возмущает волны и небо».
(12) Вот шаги он услышал, ухо клонит, смутясь, уж
(13) Руки простер для моленья странник несчастный.
«Не бойся,
(14) Ежели только не скрыт в земном и дряхлеющем теле
(15) Бог, покровитель Греции — столь величавая прелесть
(16) Старость твою украшает, — вещали они незнакомцу, —
(17) Если ж ты смертный — то знай, что волны тебя принесли
(18) К людям… дружелюбным».
В жанровом отношении сам А. Шенье определил это стихотворение как идиллию (от греческого eidyllion — картинка), т. е. как одну из форм буколической поэзии наряду с эклогами (в которых меньше чувства, но зато больше действия). Зачинателем греческой буколической поэзии был Феокрит (конец IV — первая половина III вв. до н. э.), писавший, как многие его современники, не столько символически внушительно, сколько сентиментально и забавно, колоритно и отнюдь не значительно. Его поэзия и в самом деле похожа на картинки. Такой ее и усвоил Шенье.
Андре Шенье — третий сын негоцианта и дипломата, французского консула в Константинополе. Мать Шенье была гречанкой, женщиной красивой и незаурядной, танцовщицей, знавшей искусства и литературу. Она была хозяйкой и душой греческого салона в Париже, где собирались видные поэты, художники и музыканты. Имена греческих поэтов Шенье знал задолго до того, как выучил греческий язык. А выучив его, он познакомился с литературой и увлекся великими поэмами Гомера, сельским эпосом Гесиода и лирикой Сапфо. Но особенно Шенье привлекало творчество эллинистических мастеров малых жанров — Каллимаха, Феокрита, Биона, Мосха, а также стихотворения из любимой в доме «Антологии» поэтов того периода, составленной в I в. до н. э. Мелеагром.
В сборнике «Идиллии», откуда взято стихотворение «Слепец», Шенье попытался возродить душу древней поэзии. Находясь под большим влиянием Руссо, он хочет говорить простодушно, искренно, не замечая того, что классический язык его поэзии предает его. Так, например, Шенье утверждает, что существует «искусство создавать стихи, тогда как настоящая поэзия идет от сердца», однако его собственное творчество неоклассициста производит впечатление, что он не рассказывает, а поет. Очень часто Шенье тянется к сюжетам, которые легко произносятся нараспев, как бы под аккомпанемент лиры.
Пушкин долгое время воспринимал поэзию А. Шенье без оговорок, считая его «истинным греком, из классиков классиком». При этом мы понимаем, что про себя он сравнивает его с Корнелем и Расином, к которым относится в духе споров эпохи, скорее как романтик, чем как убежденный классицист (классик).
Буколика Андре Шенье в переводе Пушкина может быть прокомментирована не только с точки зрения его места среди других переводов, времени создания в творческой судьбе поэта— 1820-е гг., но и по-другому50. Для этого прежде всего следует пояснить семантику греческих реалий данного текста, с помощью которых выстраивается идиллия, или «картинка»-перевод. Выделим прежде всего греческие реалии стихотворения: Гелиос; лук; кларосский; Лира; Греция.
Среди выделенных слов лишь одно не имеет греческого корня — лук, остальные слова и на русском языке имеют греческий корень. В 18-ти строках перевода эти слова распределены равномерно: почти на каждые три строки приходится по одному слову, обозначающему нечто греческое. Все вместе эти слова помогают воссоздать особое греческое пространство, напоминающее о древней мифологии и одновременно о неоклассическое увлечение французов на пороге XIX в. Проясним их значение подробнее.
Завораживающее прямым обращением слово Гелиос (Helios) значит «бог Солнца». Гомер в эпических сказаниях иногда называет бога Солнца Фаэтоном, хотя в древнегреческой мифологии Фаэтон — сын Гелиоса, которому отец, поклявшись выполнить его самое безрассудное желание, дает возможность в течение одного дня управлять его колесницей. В данном контексте именем Гелиос обозначен самый главный и, безусловно, самый могущественный из богов. Следует обратить внимание на то, что в оригинале нет слова Helios, а есть Sminte-Apollon,