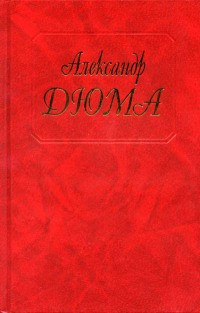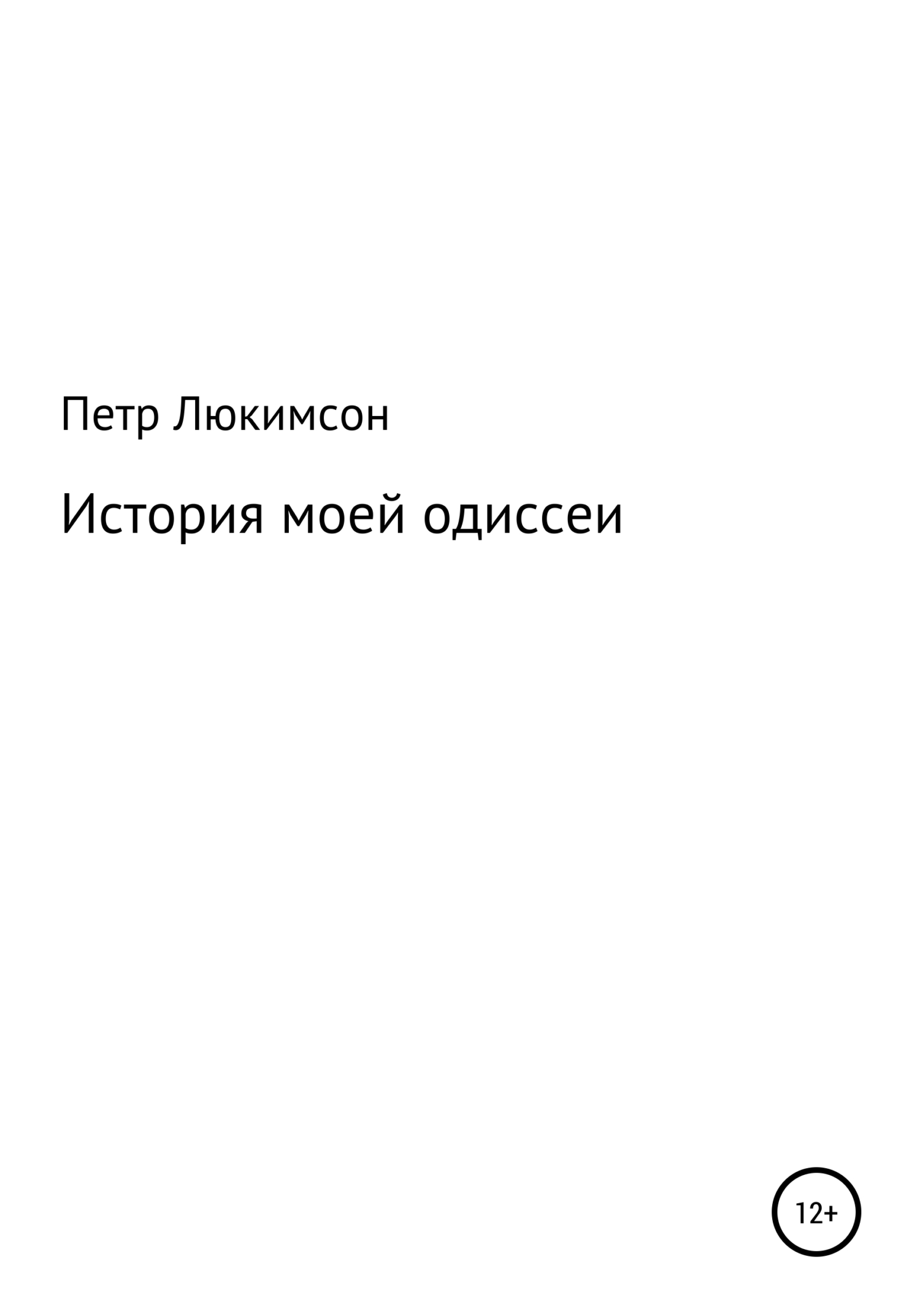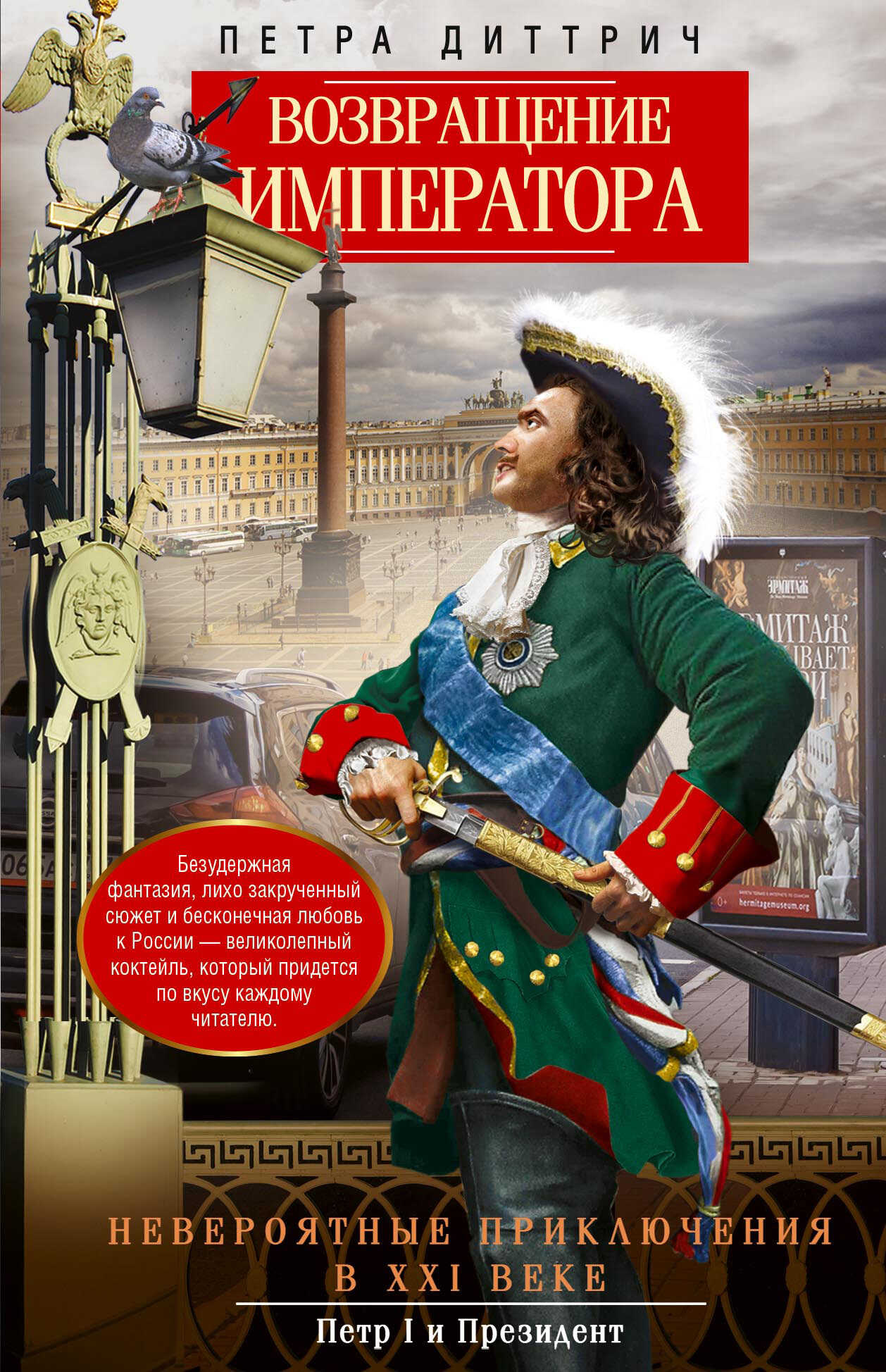Нижнего Новгорода и Галича, с крестьян Поморья и Замосковских уездов, послужили основой коммерческих успехов братьев. В то время как доведенные налогами до «конечной нужды» российские крестьяне питались хлебом напополам с мякиной, успешно «прокрутившие» их деньги «славные негоцианты» Дмитрий и Осип Соловьевы приобретали в далекой Германии алмазы и недвижимость.
Еще одной линией криминальной деятельности господ Соловьевых была ложная выбраковка казенных товаров. Приобретенные в Архангельске помощниками Дмитрия Алексеевича по искусственно заниженным ценам, эти товары впоследствии реализовались в Голландии по их действительной стоимости, и образовавшаяся разница пополняла банковские вклады «птенцов гнезда Петрова».
Не брезговали комиссары и прямым расхищением государева имущества. Так, ими была присвоена 980-килограммовая партия закупленного казной клея, проведенная в дальнейшем по отчетным документам как утраченная при транспортировке.
В отличие от других губителей «государственного интереса» Соловьевы имели, похоже, далеко идущие планы. Судя по всему, Дмитрий и Осип Алексеевичи намеревались, набрав капиталы, свернуть криминальный промысел и, покинув нестабильную Россию, заняться цивилизованным предпринимательством в Голландии или Англии[56].
Разумеется, вершить бесстрашно дела такого масштаба Соловьевы решались, поскольку за ними стоял светлейший князь Александр Данилович, чьи финансовые интересы за границей блюли братья. И, надо полагать, часть их доходов предназначалась Меншикову. Кроме того, надо помнить, что третий брат – Федор Соловьев – был управляющим имениями и имуществом Меншикова.
Хорошо знакомые с европейскими нравами сподвижники Петра понимали, насколько европейский банк надежнее их сундуков.
«Дело» братьев Соловьевых, его ход и финал – неотвратимое свидетельство принципиальной порочности системы – и экономической, и юридической, – которую с такими усилиями и издержками выстраивал Петр.
На «похищение государственного интереса», которым с таким азартом занимались Соловьевы, обратил внимание один из немногих честных деятелей, окружавших царя, архангельский вице-губернатор Алексей Александрович Курбатов, человек, поднявшийся из низов своим умом и верностью этому самому «государственному интересу».
Нет возможности и надобности рассказывать в подробностях тянувшееся несколько лет «дело» Соловьевых. Были ситуации, когда братья оказывались в предельной близости от эшафота. Но в решающие моменты вмешивался Меншиков, которому полное разоблачение этих чудовищных махинаций грозило гибелью. Так, в один из таких моментов, воспользовавшись отсутствием Петра, он попросту арестовал Курбатова и изъял имевшиеся у того документы. С удивительным постоянством те, чьи действия угрожали Соловьевым, сами оказывались под следствием и в пыточных камерах. Самоотверженный Курбатов, безуспешно пытавшийся открыть Петру глаза на истинное положение дел, умер в опале и под следствием.
Петр не доверял никому, он чувствовал свое бессилие в борьбе с тотальными воровством и ложью. И не был уверен в собственной безопасности.
К «соловьевскому сюжету» относится более поздний документ, свидетельствующий, в каком состоянии находился всемогущий самодержец.
Французский посол де Лави переслал в Париж письмо, полученное им от «лица, состоящего в сношениях с несколькими министрами царя».
Брауншвейг, 15 октября 1717 г.
Его царское величество сам неожиданно арестовал в Амстердаме г. Соловьева и все его счетные книги и выслал его в Петербург под конвоем г. Нарышкина и 35 солдат прусской королевской гвардии. В упомянутых книгах оказались пять миллионов, похищенных у царя три или четыре года тому назад. (То есть в том самом 1714 году. – Я. Г.) И около 50 миллионов, которые под именем этого человека положены некоторым сановником в амстердамский банк. Словом, его царское величество открыл через это все имущество того сановника и главнейших его участников. Это поразило его как громом (я думаю, что сановник, о котором говорится, князь Меншиков, потому что брат Соловьева служит у него дворецким). Вы, вероятно, увидите по приезде царя ужасные события, и сцена будет еще крупнее, чем в 1715 году.
В этом сообщении есть вещи принципиально важные. Царь лично занялся расследованием, которое по причине грубого вмешательства Меншикова (и, возможно, не его одного) явно буксовало. Царь лично производит арест. И самое главное – он отправляет арестованного в Россию под конвоем прусских гвардейцев.
Странно думать, что он не мог найти вокруг себя (в Германии были сосредоточены крупные силы русской армии) собственных подданных для конвоя. Стало быть, он что-то имел в виду, прибегая к услугам прусского короля. И зачем был нужен для сопровождения одного мошенника и его бухгалтерии такой мощный конвой? Быть может, зная острый интерес «сильных персон» к ходу расследования, он опасался похищения бумаг или бегства арестанта?
«Ужасающие события» и в самом деле начались. Но связаны они оказались не с «делом» братьев Соловьевых и, соответственно, Меншикова, а с «делом» царевича Алексея. И это снова вывело Меншикова, необходимого Петру в этой напряженнейшей ситуации, из-под удара.
Общая сумма украденного, скорее всего, завышена, но она свидетельствует о том, какие слухи циркулировали на этот счет в Европе…
В переломном декабре 1714 года в донесениях дипломатов появились новые тревожные ноты.
6 декабря Маккензи писал в Лондон:
«В прошлом донесении, которое я имел честь отправить 3 декабря, я сообщал полный и откровенный отчет о положении, в котором находится большинство здешних министров и высших сановников. Не решаюсь излагать собственных догадок о том, какие последствия эти обстоятельства могут вызвать как внутри России, так и за границей, позволю себе прибавить по поводу настоящего дела только следующее: мне передавали, будто царь, вглядываясь в данные, раскрытые следствием, ввиду похищенных сумм, которыми обвиняемые и поныне владеют, вывел прямое заключение, что они, пользуясь войной, задумали низвергнуть его с престола, поэтому, слышно, приостановлено и назначенное было уже выступление полков».
Если учесть, что главные обвиняемые теснейшим образом связаны были с Меншиковым, то маловероятно, что Петр подозревал именно эту группировку в заговоре против него. Но у Петра могли быть и другие соображения, и другие сведения, и он, в состоянии крайнего возбуждения, мог публично обличать потенциальных заговорщиков.
10 января 1715 года Маккензи развивает этот опасный сюжет:
«Мне передавали, что прошлую субботу оба первых министра доложили царю достоверное известие о войне, объявленной Турциею Венецианской республике. Царь выразил чрезвычайное удовольствие по этому поводу. Но радость государя, я думаю, затмилась значительно двумя частными письмами, подброшенными ко дворцу на имя царя. Одни уверяют, будто в них прямо говорится, что строгие меры, принимаемые против первых сановников, раздули огонь, способный разгореться более, чем царь предполагает 〈…〉. Как бы то ни было, замечают, что последние два дня государю не по себе и что он каждое утро присутствует в Сенате».
А 14 января он доносил:
«Хотя я и неохотно излагаю свои подозрения, не могу умолчать об одном из них, ввиду упорной продолжительности слухов. Здесь ожидают восстания, в заговоре подозревают саму царскую гвардию. Потому, говорят, недавно гвардейские полки и выведены отсюда».