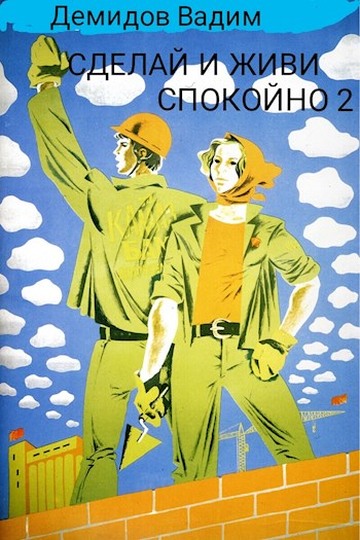иконостас»[182], «я – сегодня самый пропащий бурлак»[183]. «Я пастух, бреду с молоденькой дудочкой на карнавал», «я – звезда с вишнёвой дудкою»[184], «Я – у собора под глазами, ты – под глазами у меня»[185].
Если попадался диковинный образ, можно взять и его. Вот Вознесенский обронил «стакан крови» в «Охоте на зайца» (1963)[186]:
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!
А вот Губанов уже адаптирует этот образ:
Не пахнет мясом ли палёным
От наших ветреных романов?
И я за кровью Гумилёва
Иду с потресканным стаканом.
Или другой пример. Вознесенский в знаменитом стихотворении «Пожар в Архитектурном» рифмует:
Ватман – как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.
А после Губанов в «Полине» использует ту же рифму:
Да! Нас опухших и подраненных,
Дымящих, терпких, как супы,
Вновь разминают на подрамниках
Незамалеванной судьбы.
Брал взаймы (да и так) Губанов не только строчки и образы, но и деньги. Всегда весело и придумывая новые истории. Но гению всё простительно!
Юрий Зубков, близкий товарищ поэта, вспоминал:
«…однажды оказались в доме на улице Горького, Лёнька сказал, сейчас у нас будет много денег, здесь живёт Андрей (Вознесенский), он позвонил, дверь открыли, я остался ждать на лестнице. Минут через пять Лёнька вышел с тридцатью рублями. Вот потратить эти тридцать рублей нужно было до конца, оставить хоть рубль было неприлично и даже непристойно. Так что хочешь не хочешь, нужно было пировать».
Подобная гульба могла продолжаться не один день. Шутка ли – прогуляться по центру Москвы, а заодно пройтись по друзьям, знакомым, читателям и обожателям да занять трёшку или более? Плёвое дело.
(Сегодня это вообще не проблема. Держите лайфхак, юные и не очень поэты: во-первых, крафтовые бары и винотеки проводят бесплатные дегустации – ежедневно – знай только, где искать; а во-вторых, всегда можно попросить всё тех же друзей и т. п. занять сотку – дистанционно, хоть из другого города, на карту – и гуляй, покуда хватит сил.)
Губанов это умел, любил и практиковал.
Приходилось выдумывать новые и новые истории для получения денег, но фантазия била ключом – не заткнуть.
Но эта же денежная тема и разводила поэтов. Сытый голодного не разумеет. Важно и то, что Вознесенский, может, не до конца это понимал. Человек добрый и обходительный, он мог многое себе позволить. Любил шиковать. Иногда, видимо, забывался.
Кублановский дал очень точную ситуацию, показывающую «забывчивость» своего старшего товарища:
«…когда хоронили Анну Андреевну Ахматову, гроб стоял в морге больницы Склифосовского в течение часа, и там впервые я увидел пианистку Марию Юдину, Надежду Мандельштам, последние осколки старой великой культуры. Был март 66-го. Юдина была в китайском плаще и в кедах с палкой, седоволосая. Надежда Мандельштам в каком-то свитере и шапочке. Они были бедные люди! А пришёл Евтушенко, пришёл Вознесенский – парад дубленок, парад мохеровых шарфов и пыжиковых шапок»[187].
Но вернёмся к Губанову и их отношениям с эстрадником. Принципиальное отличие одного поэта от другого – в аудитории и в корректировке голоса под неё.
У первого – это московская молодёжь, которой дай только волю – начнут смеяться, орать, зубоскалить; пока читаешь, будут разливать очередную бутылку, громко передвигаться, нарушать поэтическую мистерию замкнутого пространства – кухоньки или художественной мастерской; с такими надо работать по-чеховски: раз – и в морду, и обязательно неожиданно, чтоб огорошить как следует.
У второго иные читатели – тихая, икающая от громких слов интеллигенция маленьких советских научных городков; вот они будут слушать внимательно, потому что живут так – затаив дыхание – пока ломают глаза над рабочими формулами, пока едут в трамвае, пока целуют любимых, пока сидят на стадионе и слушают поэта; отсюда и авангардизм Вознесенского, который на поверку оказывается разболтанной и расшатанной традицией или, как иной раз говорят, поэтическим конформизмом.
3. Самое молодое общество гениев
Там не снуёт история,
Там мысль ещё не роздана,
И видят инфузории
То, что зовём мы звёздами.
Илья Эренбург
«Морили прежде в розницу…»
Андеграунд
С эстрадниками Губанов общался от случая к случаю: когда надо выручить его или кого-то из друзей, когда можно попробовать занять денег или попросить «проходочку» на концерт.
Тесное общение было всё-таки с людьми неподцензурными – с теми, кто не мог и помыслить об официальном издании своих текстов, кто занимался самиздатом, устраивал квартирные чтения стихов и прозы и домашние выставки картин. Поняв, что большая советская литература – это совершенно отдельное искусство, Губанов начал искать прекрасное в андеграунде.
В этом плане весьма характерен список его телефонных контактов[188]: Аделина Адалис, Владимир Бурич, Андрей Битов (Питер), Лёва Алабин, Коля Клемантович, Алик Мирзаян, Владимир Бережков, Игорь Блиох[189], Аркаша Пахомов, Лиля Бернес[190], Лёша Хвостенко, Виктор Борисович Шкловский, «Юность», Валера Тюпа[191], Галя Марченко[192], Таня Бек, Лариса Пятницкая, Наташа Шмелькова, Таня Калиничева, Андрей Монастырский, Генрих Сапгир, Кира Сапгир, Игорь Холин, Сергей Чудаков, Вова Алейников, Юра Стефанов[193], Май Митурич, Нонна Степанян[194], Вова Пятницкий, Эдик, Женя Рейн.
Это список конца семидесятых, но большая его часть была и в середине шестидесятых. Какие ещё имена? Ян Сатуновский и стоящий где-то рядом с лианозовцами, но в то же время абсолютно самостоятельный Всеволод Некрасов.
Вот, кстати, несколько стихотворений Сатуновского, написанных в период общения с Губановым. Не к нему ли они обращены? Вот первое[195]:
Вроде Володи.
Вроде Серёжи.
Вроде похоже.
Вроде похуже.
Вроде того.
Вроде сего.
Вроде всего, и всего ничего.
Вроде Володи и Серёжи – это вроде Маяковского и Есенина, с которыми постоянно сравнивали Губанова.
А тут мы видим некоторую иронию по отношению к коллеге.
Или вот ещё стихотворение[196]:
Хочу ли я посмертной славы?
Ха,
а какой же мне ещё хотеть?
<…>
Сижу ль меж юношей безумных?
Сижу,
но предпочитаю не сидеть.
И как будто продолжение