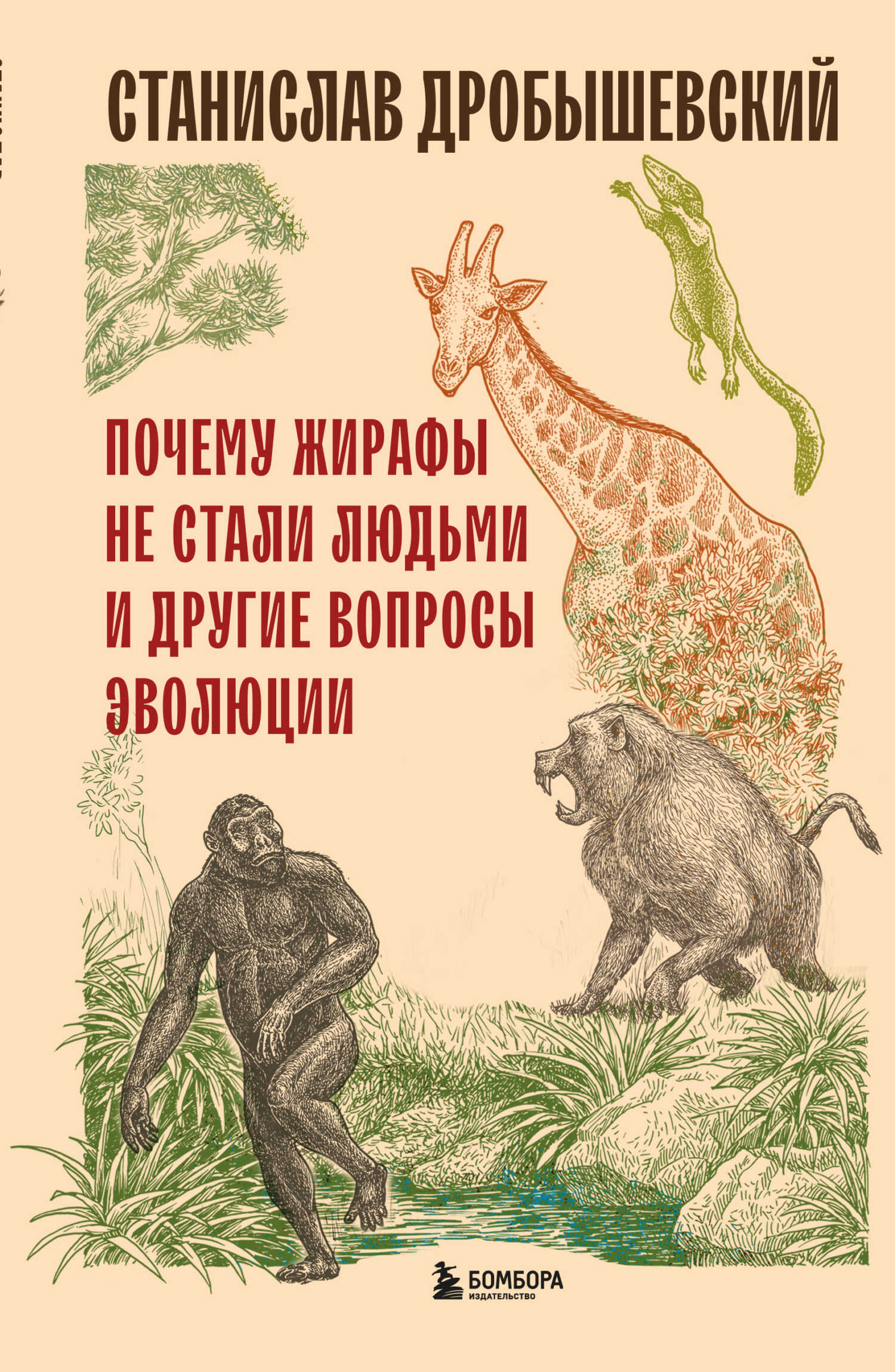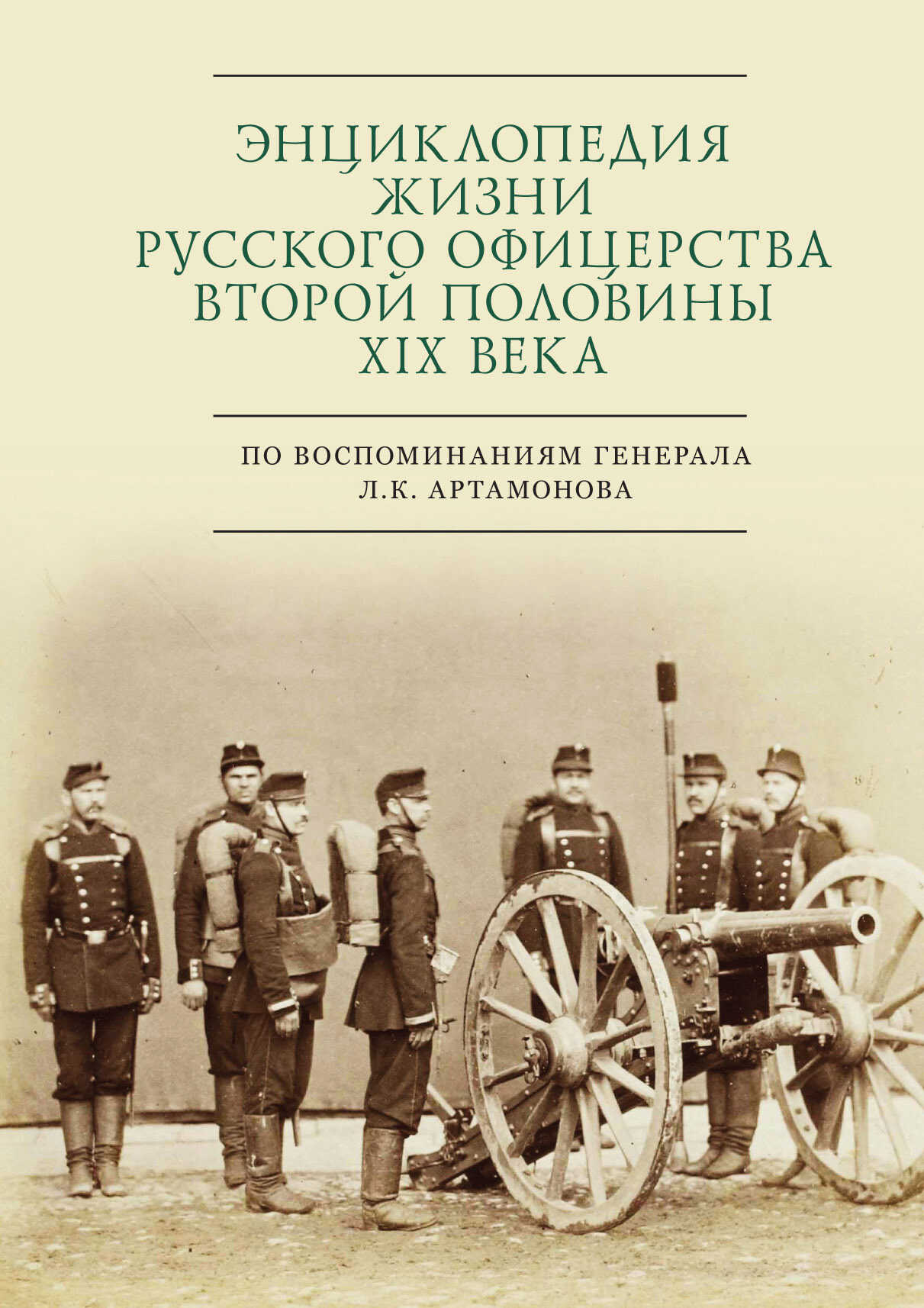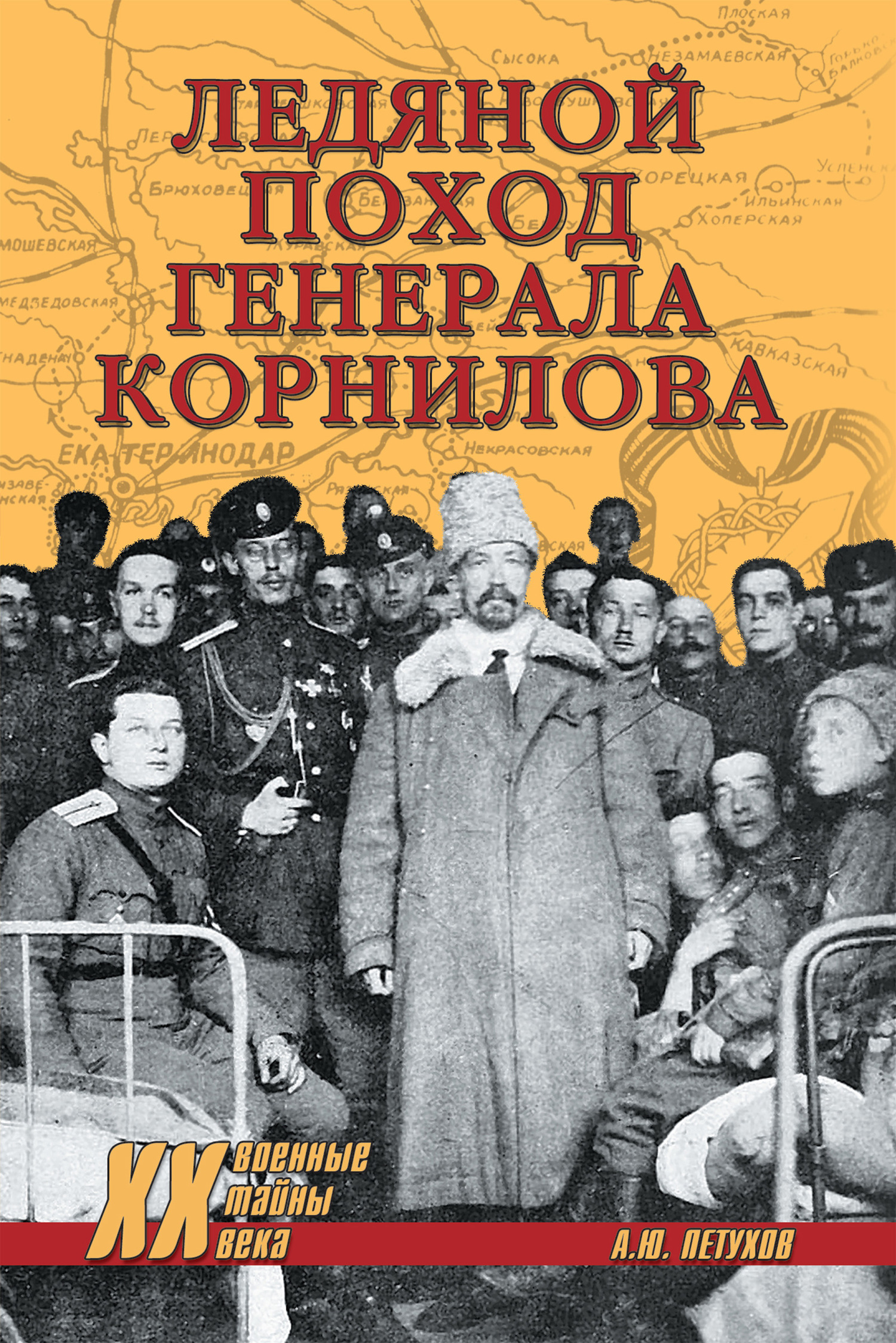кавалерия по версии «Популярной механики». Первоапрельский розыгрыш неожиданно превратился в крупномасштабную мистификацию: авторы шутки явно недооценили готовность современных читателей поверить в любую фантасмагорию
Пулеметные лоси все-таки лучше смотрятся в фантастике, чем на реальной Советско-финской войне
Лось и северный олень (?) в качестве неолитических «буксировщиков»? Увы, похоже, эта буксировка – художественная вольность или мифологическое допущение…
На этом рисунке из «Истории северных народов» ездовой олень не только ростом с лося, но и условно «лосерогий»
В данном случае Олаус Магнус изображает смешанный отряд «московитов» и их союзников из числа коренных обитателей лесотундры. Небольшая художественная вольность – и ездовые олени оказываются «скрещены» с конницей Московской Руси, образуя необыкновенный, но чисто виртуальный гибрид
Широколобый оленелось: вес до полутора тонн, рост в холке 2,5 м, размах рогов примерно такой же. В финские леса с такими рогами соваться нечего, но по всем остальным параметрам это был бы идеальный «боевой зверь»… для армии раннего палеолита!
Оленелось Скотта: вот это и вправду «упущенный шанс» – с первыми очагами доместикации он разминулся скорее территориально, чем хронологически
Лось под седлом. К сожалению, для красноармейских подвигов мощность его далеко недостаточна
Рабочие лоси Кнорре. Фотографии подобраны наиболее выигрышные – но все-таки видно, что полезный груз не так уж велик. Иногда вознице приходится не только сходить с саней, но даже подталкивать их
Лось, впряженный в индейскую волокушу? Увы: не лось, а «утка». В нескольких современных изданиях эту мистификацию восприняли всерьез, но эффект дагерротипа здесь достигается при помощи фотошопа
И это тоже фотошоп (опять-таки неоднократно переиздававшийся как «реальный снимок»). Особой фантастики здесь нет, но де-факто столь роскошный самец, да еще в «рогатые» месяцы, не только для работы непригоден, но и подходить к нему слишком рискованно – даже если он идеально приручен
VII. Гибриды, которых не было
Остров гориллоидов в океане есть
– Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны.
– Ах, профессор, неужели обезьяны?
– Да, – непреклонно ответил Филипп Филиппович.
Михаил Булгаков «Собачье сердце»
Вот и пришла очередь темы, к которой автор этих строк подступает с содроганием. Дело в том, что он, автор, некоторые свои ипостаси стремится держать «в разных файлах». Например, ипостась, связанную с оружиеведением – и с криптозоологией, наукой о «неведомых зверях». Но иногда они все же поневоле совмещаются.
Начнем все же не с криптозоологии. В истории опытов по межвидовой гибридизации есть страница не то чтобы совсем уж мрачная, но cкрытая густым туманом. Профессор И.И.Иванов, создатель асканийских зеброидов, центральная фигура среди тех исследователей, чьими стараниями Аскания-Нова превратилась из экзотического зверинца в научный центр, один из разработчиков искусственного осеменения как такового, – он… В общем, все, над чем Иванов работал в Аскании, было лишь «подступами» к его основной научной цели. Весьма специфической.
В самой Аскании об этом долгое время (собственно, до сих пор) вспоминают с оглядкой, нарочито предпочитая говорить об «ивановском наследии» в целом: специально, чтобы не разделять деятельность двух совершенно разных профессоров Ивановых, Ильи Ивановича и Михаила Федоровича. Последний, селекционер-животновод, занимался достаточно беспроблемной тематикой, не вызывавшей нарекания властей (впрочем, поскольку власти были советскими, именно сейчас М.Ф.Иванову это, надо думать, посмертно припомнили). А вот заветной целью Ильи Ивановича было создание гибрида между… человеком и обезьяной.
Идея эта у Иванова возникла еще в дореволюционное время, но тогда к ней подступиться было нельзя, даже под крылышком столь богатых и влиятельных спонсоров, как Фальц-Фейн, о котором рассказывалось в главе про зеброидов, и сам Столыпин (премьер проявлял большой интерес к сельскому хозяйству вообще и наукоемким отраслям животноводства в частности). Возможность появилась лишь в 1925 году, когда докладная записка профессора обратила на себя благосклонное внимание как минимум двух наркомов, Луначарского и Цюрупы.
Эпиграф из «Собачьего сердца» к такой гибридизации прямого отношения не имеет, но взят он не случайно: пересадка обезьяньих яичников – очень модная в то время методика, разработанная профессором С.Вороновым. Эта операция якобы способствовала омоложению организма, а вдобавок, точнее, в первую очередь обладала эффектом «виагры». На самом деле об омоложении говорить не приходилось (а те малозначительные, нестойкие, но раздутые рекламой эффекты, которые все-таки имели место, объяснялись отнюдь не влиянием обезьяньих гормонов!), но шумихи хватило на многие годы. Это были именно те годы и именно та шумиха, что и в случае с опытами Иванова. Так что интерес к цели подогревался с нескольких направлений одновременно.
В 1926—1929 годы Иванов проводит ряд опытов, довольно скромных по масштабам и совершенно никаких по результатам: искусственное осеменение не удалось, зачатие не состоялось. Но они требовали грандиозных, в том числе и по финансированию, подготовительных мероприятий. Тут и обширные контакты с коллегами из Латинской Америки, и возрождение Сухумского обезьяньего питомника (в советское время было принято говорить о его «основании», но первые шаги к основанию были предприняты еще до революции), и экспедиция во Французскую Гвинею, и заказы «материалов для скрещивания» в других африканских колониях. Как-то «общим списком», без эмоций упоминается доставка половозрелых самцов шимпанзе и… женщин из племени пигмеев. Факт доставки, правда, не состоялся, так что куда на самом деле ушли выплаченные средства – отдельный вопрос! Было и много чего еще, и не удивимся, если в этом «много чего» и заключался основной наркомовский интерес. Профессора, ученого старой закалки, в самом деле вел исключительно научный энтузиазм, но вот для правительства открывались отличные перспективы… А, собственно, на что?
Именно в эти годы появляется масса научно-популярных или откровенно литературных фантастических публикаций, повествующих о создании «рабов» или «солдат» на основе новых пород обезьян или даже гибридов между обезьяной и человеком! Сильных, стремительных – и недостаточно умных, чтобы взбунтоваться; впрочем, обезьян-рабочих некоторые авторы все же ухитрялись взбунтовать! Это была эпоха ожидания «биологических чудес», страшных или восхитительных, причем и восторг, и ужас были чем-то сродни