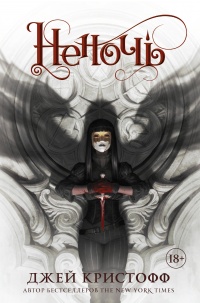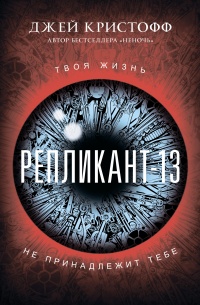плоти.
– В крови этой, – выдохнула она, – да обрящем мы жизнь вечную.
– Мы, – понял я.
– Мы.
– Ты убила его, – прошептал я.
И в этот момент Феба, переполненная торжеством, выкрикнула мое имя. Грязнокровки и солдаты Воссов отступали после убийства хозяек, горцы объединялись, Бринн ревела, наблюдая за кровавой резней. Взгляд Селин метнулся ко мне, и я увидел, что ее глаза немного потемнели, стали почти такими же карими, какими были когда-то, и осознание этого осело пылью у меня на плечах.
Но она ничего не отрицала. И тогда я понял, что это правда.
– Ты выпила моего отца.
В темнице под Суль-Аддиром последний угодник-среброносец и последняя лиат смотрели друг на друга через мрачные и коварные воды. Глаза угодника были темно-серыми, как грозовые тучи на фоне темно-красных белков. А глаза Лиат были абсолютно черными, затопленными до краев, темными и бездонными, как река перед ними. Жан-Франсуа переводил взгляд с брата на сестру, чувствуя, что воздух между ними пропитан ненавистью. И в этой неловкой тишине историк прокашлялся и заговорил:
– Так, а что же с Граалем? Что в это время происходило в дуне?
Брат и сестра злобно пялились друг на друга целую вечность, но все же заговорили. Странная это вещь – быть братом и сестрой. Столько злобы и любви. Ненависти и историй. Эти узы выкованы из железа. И чтобы разорвать их полностью, нужно приложить немало усилий.
Но это возможно.
– На крепостных стенах, – прорычал Габриэль, – у нас теперь не было глаз. О том, что происходило, я знаю только от тех, кто выжил. Закатные плясуны и угодники-среброносцы рвали Дивоков на части, и некоторые из них сломались и бежали к своему флоту в заливе, чтобы выжить и столкнуться с нами в другую ночь. Но вокруг Никиты бушевали буря и ярость: вампир сражался на крепостной стене со своим смертным братом, которого он воспитывал, мучил, ваял из камня. От его схватки с Лакланом кровь стыла в жилах, я это точно знаю. О таких битвах слагают стихи поэты и поют баллады менестрели: Черносерд против угодника-среброносца, брат против брата, и все вокруг них превращалось в прах и руины.
А внизу, среди разрушенных строений Ольдтунна, едва дышал Батист. Он спас жизнь Аарону, когда сбросил себя вместе с ним со стены, но ему после удара о каменные плиты стало хуже. У него уже была сломана рука, а теперь треснули и ребра. Аарона обезоружил Лаклан, но он извлек из-под обломков топор, достаточно большой, чтобы снести человеку голову. И все выглядело так, будто именно это он и намеревался сделать, преследуя хромающего Батиста по руинам города Ниав.
Батист, убегая, взывал к Аарону, все еще отчаянно пытаясь разрушить чары крови Никиты. И среди всей этой резни и ужаса он рассказывал ему истории о радости и горе, о том, что было между ними: о маленьких эпизодах из прошлого, которые два живущих вместе человека помнят так же хорошо, как собственные имена.
Батист напомнил Аарону, как на день святого тот сделал букет цветов из обломков железа. О ночи, когда они только поселились в Авелине, и об их ужасном споре, кто кого внесет в дом на руках. Но когда Батист заговорил об их юности в Сан-Мишоне, забрезжил луч надежды.
– Ты тренировался в Перчатке, – сказал чернопалый. – Снова и снова орудовал Косой. А я устанавливал новое препятствие на Шраме, помнишь?
Аарон зарычал от досады, преследуя свою жертву по разрушенному поместью без крыши. Батист уклонился от удара и поднял для защиты молот, уже совсем отчаявшись.
– Я подозревал, что ты, возможно, наблюдаешь за мной. – Здоровяк почему-то улыбнулся, парировал удар и отклонился назад. – Краем глаза. Поэтому я снял рубашку, чтобы проверить свою теорию, и ты тут же налетел на одно из бревен, помнишь?
Аарон споткнулся, занеся топор для удара, но так и не опустил.
– Ты чуть не сломал себе челюсть, – ухмыльнулся Батист, тяжело дыша. – Помнишь?
Теперь они стояли среди падающего снега и пепла, в двадцати футах друг от друга, посреди обломков и руин. Посреди этого хаоса, под действием слов Батиста, на них снизошла тишина, и хотя глаза Аарона все еще пылали, теперь в них горела не ярость, а… воспоминание.
– Ты… смеялся надо мной, – прошептал он.
– Так и было. А потом предупредил тебя, чтобы ты следил за своим лицом.
Губы Аарона чуть заметно изогнулись.
– А я спросил… что не так с моим лицом.
Голос Батиста смягчился, улыбка исчезла. И, еще не смея надеяться, он сделал один маленький шажок навстречу своей любви.
– А я ответил, что я в своей жизни не видел ничего прекраснее.
Аарон стоял на снегу, и его золотистые волосы развевались на ревущем ветру. Битва была оглушительной, но их будто объяло тишиной. Тогда огромный топор задрожал, а затем выскользнул из пальцев Аарона, и мой друг посмотрел на свою окровавленную руку, как на чужую.
– И тогда я понял, что ты – мой, – сказал Батист, подходя еще ближе. – А я – твой. Что ничто и никогда не разлучит нас. Я помню все так, будто это было вчера. А ты помнишь?
– Я…
Аарон сильно заморгал, и на ресницах у него выступила кровь.
– Я…
И тут с неба упала черная фигура, приземлившись между ними с раскатом грома. Плиты раскололись, и Батист вскрикнул, когда его отбросило назад. Сребростальное оружие выпало из рук, а сам он врезался в кованую железную ограду поместья. И когда снег и каменная крошка рассеялись, среди останков он увидел склонившегося над землей Никиту. Плащ у него был разорван и забрызган кровью, левая рука оторвана по самый бицепс, грудь, плечо и живот рассечены до костей. Но и его клинок был обагрен кровью брата – брата, которого он победил.
Лаклан лежал под ним на обломках, разбитый и изломанный, едва дыша, лишь глаза мерцали серебром сквозь пепел, а кожа была залита кровью. Поднявшись над тем, что осталось от брата, Никита сплюнул на разбитые камни.
– Слабак, – прошипел он.
Затем Черносерд огляделся, и его мертвые глаза остановились сначала на Аароне, а затем на его друге, все еще скрюченном на груде кованого железа. И с холодной улыбкой на губах Никита наклонился и сомкнул ладонь на горле Батиста.
– Они бежали через дун, – прошептала Селин. – Рейн и Диор. С разодранной ноги Грааля капала кровь, плечо принцессы было прокушено до кости, и клинок ее матери безвольно висел в окровавленной руке.
– Остановись, да остановись же ты! – умоляла Диор.
Задыхаясь, она