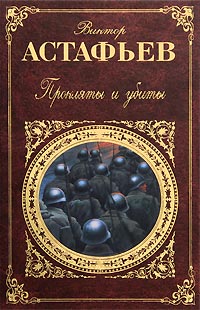будет очень приятно повидать всех вас. В общем, я жду вас, Данилович. – Не дожидаясь ответа, Григорий повесил трубку, вытер со лба ладонью холодный пот, отошел от телефона и, повиснув на костылях, с минуту стоял неподвижно, остановив взгляд на прокопченной табачным дымом люстре. «Пакет в пергаменте… Паренек в кубанке с красной лентой… Может быть, от однополчан, кто не вырвался из вяземского котла и ушел в партизаны? Но почему на имя деда? Там, под Вязьмой, перед прорывом, когда получили приказ на вынос знамени, мы на всякий случай обменялись адресами…»
Всю субботу Григорий жил в напряженном ожидании старика с внучатами. Чтобы убить время, после обеда зашел к майору Воронцову, поправил ему одеяло, подушку, рассказал, что машинистка была растрогана до слез, когда он положил перед ней пачку новеньких червонцев. При этом даже как-то виновато сказала: «Я столько много не возьму».
Майор в ответ болезненно улыбнулся и тихо произнес:
– Пригодятся… Она молодая, здоровая, ей деньги нужны. А мне… – Не договорив фразы, майор закрыл глаза. – Спасибо, лейтенант. Ты сделал доброе дело. А машинистке при случае передай, что если она остро нуждается в деньгах, то пусть зайдет в седьмую палату к майору Воронцову. У меня еще есть деньги, которые тратить уже не на что. Мои родные далеко, на Украине, и денежные переводы туда не дойдут.
Выйдя из палаты, Григорий услышал, как кто-то из глубины холла, где раненые играли в домино, громко выкрикнул его фамилию.
– К тебе пришли, лейтенант!
Григорий резко повернулся на окрик и увидел: в широком проеме высокой двустворчатой двери палаты, в которой он лежал, напоминая чем-то большой белый гриб, рядом с которым по обе стороны возвышались два небольших белых грибочка, один меньше другого, стояли Захар Данилович, Тараска и Васек. Халаты на внучатах старика, перехваченные и подобранные у пояса, концами касались паркета. В руках старика была сумка.
Привычно выбрасывая перед собой костыли, Григорий несколькими широкими шагами достиг двери и, приставив «коней» к стене, заключил старика в крепкие объятия.
Два месяца назад, когда Данилыч прощался с Григорием, провожая его на передовую, он не проронил ни слезинки. Теперь же, обнявшись и расцеловавшись со стариком, Григорий почувствовал щеками не только его шершавую бороду, но и теплоту слез.
– А вот это уже совсем ни к чему, Захар Данилович, – мягко произнес Григорий, опираясь рукой о стену.
Старик ладонью вытер со щек слезы. Губы его нервно подрагивали, во взгляде проскальзывала какая-то виноватость.
– Нервишки сдают, Ларионыч… Война-то вон какая идет, не проходит недели, чтобы почтальон не принес три-четыре похоронки в мои дома.
Глядя на расстроенного деда, на его дрожащие пальцы – когда он стирал со щек слезы, – на приставленные к стене костыли Григория и на его толстую, замурованную в гипс правую ногу, зашмыгали носами Тараска и Васек. Ведь всего два месяца назад на нем хрустели, перехватывая плечи, новенькие, пахнущие спиртовой кожей ремни портупеи и широкий с большой пряжкой ремень. Вместо новенькой гимнастерки, к которой плотно прилегала кобура с револьвером, на Григории была застиранная полосатая больничная пижама, из-под которой выглядывала нательная рубашка. А каким высоким, красивым казался Григорий детям, когда, затянув на шинели ремень с двумя рядами дырок, ловко поднимал Тараску и Васька на руки и целовал их в щеки. Он уходил на войну.
Увидев заплаканные лица ребят, Григорий хотел как-то утешить их, но как – не знал.
– А вы-то что? Чего сырость развели? А ну, орлы, выше головы!.. – Григорий хотел было присесть, чтобы поцеловать детей, но сделать это не позволила раненая нога. – Васек, Тараска, вы же гвардейцы, а гвардейцы не плачут… Я уже иду на поправку, скоро врачи снимут с ноги вот эту броню и… – Григорий костылем постучал по загипсованной ноге, звук получился какой-то мертвенно-холодный, отчего дети сильно испугались. – И буду ходить вначале с палочкой, а потом заброшу ее.
Но эти слова не успокоили детей. Шмыгая носами, они уткнулись лицами в полы халата деда и продолжали всхлипывать.
Григорий заглянул в свою палату и, не желая нарушать режима тихого часа разговорами с гостями, кивком показал в сторону просторного холла, где рядом с большим кустом комнатной розы на диване сидел калека без обеих рук, на щеках, лбу и подбородке его голубовато темнели пороховые ожоги.
Из головы Григория не выходил пакет в пергаменте, но чтобы не обидеть Данилыча своим нетерпением, он начал расспрашивать его о том, как здоровье его и Лукиничны, как учатся внучата, рассказал, как его ранило. Но одновременно в голове пульсировала все та же мысль: «Пакет в пергаменте…» Когда Данилыч вытаскивал из холщовой сумки баночки с вареньем, горшочек с вареной и еще теплой картошкой, бутылку молока, заткнутую белой тряпицей, Григорий все ждал, когда же старик вытащит из нее письма и пакет. И наконец дождался.
Вначале Данилыч достал «казенные» письма в больших и малых конвертах.
– Эти пришли еще в октябре. – Данилыч положил на стол перехваченную тесемкой пачку писем и снова запустил в сумку руку: – А вот этот пакет, как я вам уже вчера говорил по телефону, принес парнишка лет семнадцати, веселый такой. Я спросил его, кто он и откуда. Он в ответ рассмеялся и сказал: «Из леса, дедушка, из леса…» Отдал мне честь и ушел. Больше ни словечка не сказал.
Дрожащими руками Григорий с силой разрывал крепкую бечеву, несколько раз крест-накрест перехватывавшую пакет. Пять толстых запечатанных писем в один миг веером рассыпались на столе. И со всех пяти самодельных конвертов на Григория смотрел почерк Галины. Все письма были адресованы академику Казаринову.
Прижав письма к груди, Григорий закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. Он даже не услышал, как задетый локтем его костыль с грохотом упал на пол.
Не плакал Григорий, когда на его глазах рухнула в проран разбитого моста Галина. Не плакал, когда траурная мелодия Шопена, надрывая душу, плыла над могилами Новодевичьего кладбища, когда хоронили деда. А вот теперь… Теперь нервы не выдержали. «Уж не сон ли все это?» – подумал Григорий. И чтобы отогнать возникшие в голове мысли, широко открыл глаза, обвел невидящим взглядом старика и детей. Смахнув рукавом пижамы слезы, начал лихорадочно перебирать письма Галины. Взгляд его нервно скользил по округлой вязи ее почерка, который он мог узнать из миллионов других почерков по буквам «р», «з» и «д». На каждом конверте стояла дата и порядковый номер.
– Захар Данилович, это от нее…
– От кого? – не понял старик.
– От жены… От Галины… Я ведь был уверен, что она