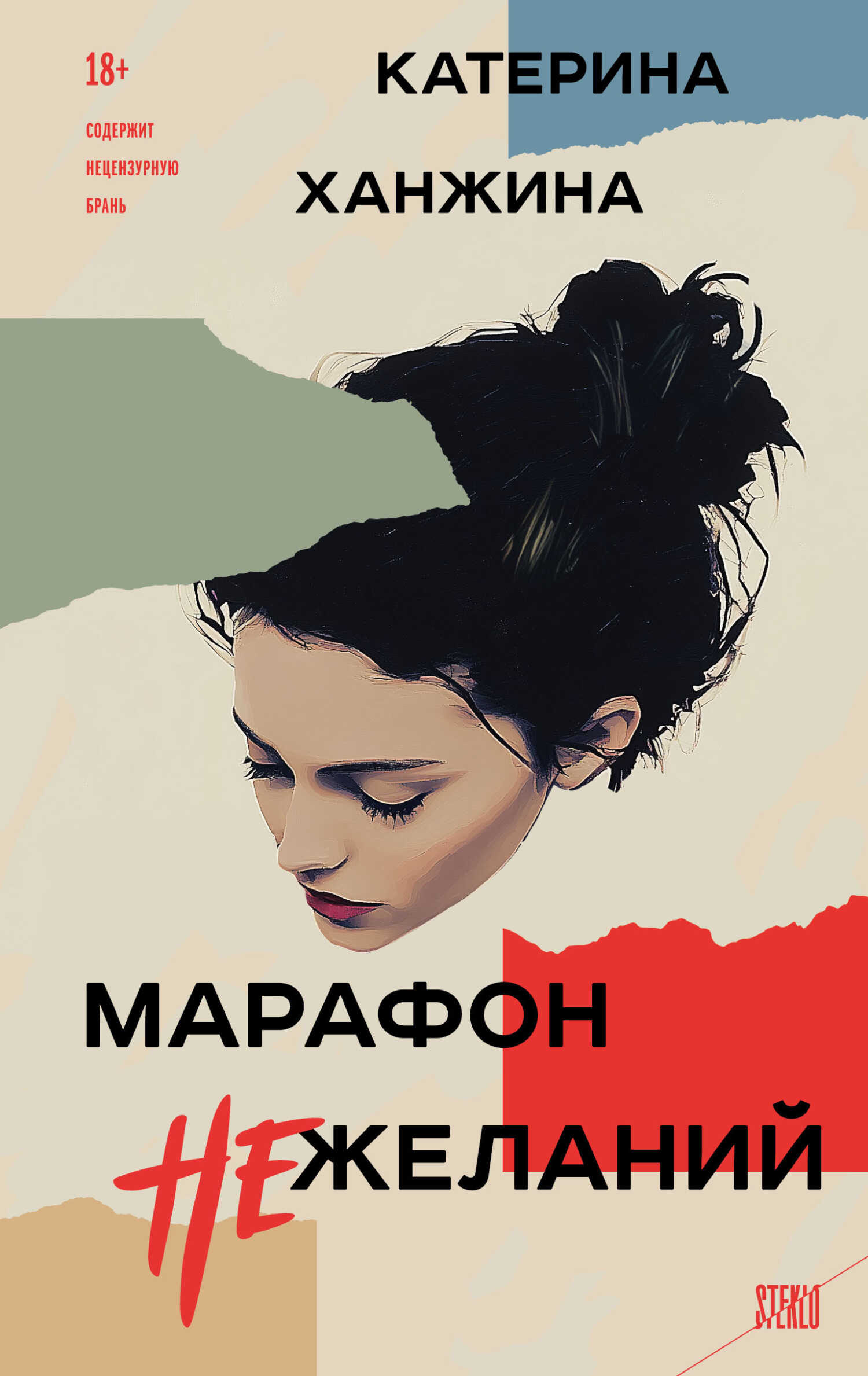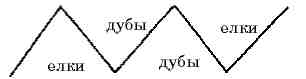class="p1">Я редко покидала квартиру. Проводила часы у зеркала. Фотографировала своё отражение на разных стадиях исчезания. Я чувствовала себя отрешённой ото всех и одновременно на связи со Вселенной. Я осознала, что всё это время я, прямо как Колумб, была на волоске от открытия. Оно заключалось в том, что мне больше не нужны эти мужчины с фотоаппаратами. Я могу повернуть камеру на себя. И как я раньше не догадалась?
Просыпаясь ни свет ни заря, я располагала такой роскошью, как время. Утренний покой благоприятствует работе. Если честно, это моё самое любимое время дня. Время, когда я одна, сама с собой. Небо на востоке лишь начинает потихоньку светлеть. Ещё не было и пяти утра, когда я брала старенькую цифровую камеру, ставила её на сооружение из табуретки и стопки книг напротив себя и нажимала кнопку записи. Я была одна, но больше не была одинока. Камера стала моим большим другим.
Я ничего не придумывала, но творила. Манифестировала, используя в качестве медиума своё новое тело. Каждый приём пищи стал настолько запредельно важным, что я документировала его на камеру. Это обязательство сдерживало меня от срывов и помогало держать голод под контролем.
Было ещё кое-что подо всем этим. Любовь к искусству. Я верила в искусство так, словно от этого зависела моя жизнь. Может быть, так оно и было. Казалось, что в этих однообразных видео смысла больше, чем во всей моей глупой жизни.
Я хотела создавать что-то понятное, ясное. Очевидное. Безоговорочное. Тело представлялось инструментом – слабым, гибким, ещё в процессе становления. Я работала над идеями и образами того, как это бесполезное тело, подобно сверхновой, обращается в тело с неограниченными возможностями к самопреображению. Это тело наделено железной волей. Тонкое – как тростинка, сильное – как тростник.
Искусство подразумевает умение дистанцироваться. Это незыблемое, как кантианский императив, правило. Об этом писал ещё Кьеркегор. Значит ли это, что я научилась дистанцироваться от себя? О да. Когда я смотрела в зеркало на свои кости, я не могла поверить, что это я, что у меня получилось.
«Сомнительное достижение», – скажете вы, но это ещё какое достижение, ведь нет ничего тяжелее, чем стать легче. Так называлась моя первая работа, посвящённая Ане. «Нет ничего тяжелее, чем стать легче». Я усаживалась на диван с тарелкой творога, ела, дочиста вылизывала тарелку и снимала всё это на камеру. По сути, это один большой проект, которым я занимаюсь до сих пор и совершенно не представляю, как его закончить.
Иногда, чтобы поверить, надо сделать вид, будто плохая идея на самом деле не такая уж и плохая. Плохое искусство не такое уж и плохое. Но Ана не притворяется – плохая идея есть плохая идея. Она не говорит, что она хорошая. Моя Ана так никогда не говорила. Что бы дикое и отчаянное я ни делала, она говорила, что я великолепна и величие гарантировано.
Если Ана символизирует весь мир, то голод символизирует искусство. Да, искусство, которое живёт в одной плоскости с болезнью. Искусство, которое приносит утешение. Искусство, которое так же монотонно, как и сама жизнь. Да, голод заключает в себе весь смысл, разрешение всех загадок, кроме тех, что не имеют разгадки. Голод и искусство – это действительно то, что отличает меня от других людей.
На этих видео я вижу девочку – очень смутную, она как будто теряет энергию и растворяется в воздухе, её почти и не видно. Ноги сложены по-турецки, на коленях лежит подушка с нарисованной батиком бледнолицей китаянкой.
Может быть, эти фрагменты нельзя назвать искусством, но моё сознание сосредоточено, оно никогда не устаёт, на него не нападает дремота. Я всегда предельно сконцентрирована. Я не отвлекаюсь на ложные вопросы, но мне кажется, что я не успеваю, что я недостаточно стараюсь, недостаточно хороша.
Есть люди, у которых всё ловко получается, а есть и другие, которые прикладывают больше усилий, но остаются в группе середнячков. Я относила себя ко вторым. Чтобы раскрыться, реализовать свои способности, мне нужно гораздо больше времени, чем другим.
Идея отсутствия пользы, отрицания пользы захватила меня. В жизни должно быть что-то бесполезное. Я убиваю своё время и энергию ради чего-то абсолютно бессмысленного и бесполезного. Вредного и не нужного никому, кроме меня. Культ поэзии, культ красоты и культ пустоты казались мне неразделимыми, неотъемлемыми друг от друга. Столько людей умерли в поисках красоты.
В ночной синей комнате, не в силах заснуть, я жду теперь каждого утра, чтобы не только поесть, но и снять этот процесс на камеру. Проделываю это снова и снова, пока мама спит в своей комнате. От мысли, что она может проснуться и застать меня за этим занятием, по спине пробегает холодок то ли страха, то ли стыда.
Я хочу продемонстрировать, что грани между повседневностью и искусством не существует. Повседневность стала для меня искусством. Только в искусстве всё чуть-чуть по-другому. Ноги на видео из-за разрешения камеры кажутся чуть более вытянутыми.
За периодами подъёма и повышенной работоспособности следовали спады, но в целом я чувствовала себя такой счастливой, будто поступила в университет Лиги плюща и получила премию Кандинского одновременно.
Закон подлости
Папа говорил, что миром правит закон подлости. Он произносил это с интонацией кота Матроскина:
– Бутерброд всегда падает маслом вниз. Это закон подлости.
Тогда же он спрашивал, знаю ли я, как правильно делать бутерброд.
– Колбасой вниз?
«Каникулы в Простоквашино» был моим любимым мультиком.
– Нет, Софушка, смотри.
Он отрезал толстый ломоть бородинского хлеба.
– Во-первых, хлеб должен быть обязательно чёрный, желательно бородинский, запомнила?
– Да.
– Затем натираешь его чесноком и солью.
В блюдце лежали очищенные дольки чеснока цвета слоновой кости, крупные, как клыки доисторического животного. Он брал несколько, измельчал их до состояния ароматной кашицы и намазывал на хлеб.
Он мог съесть целиком, не разрезая, положить в рот и прожевать приличную луковицу, при этом даже не поморщиться, а, сочно причмокивая, выкинуть кулак с оттопыренным большим пальцем и сказать:
– Во! Чисто мёд!
Его голубые, как небо, глаза содержали в себе двойное послание – любовь и страх. Они мерцали под покрасневшими веками и были картой, по которой я определяла судьбу сегодняшнего вечера. Они были добрыми и опасными, насмешливыми. Родными.
Казалось, весь мир подчинялся закону подлости, однако бутерброд, падающий маслом вниз, был наименьшим злом. Всё происходило не так, как должно было. Происходило что-то болезненное, способное привести к безумию.
В детстве я играла в игры сама с