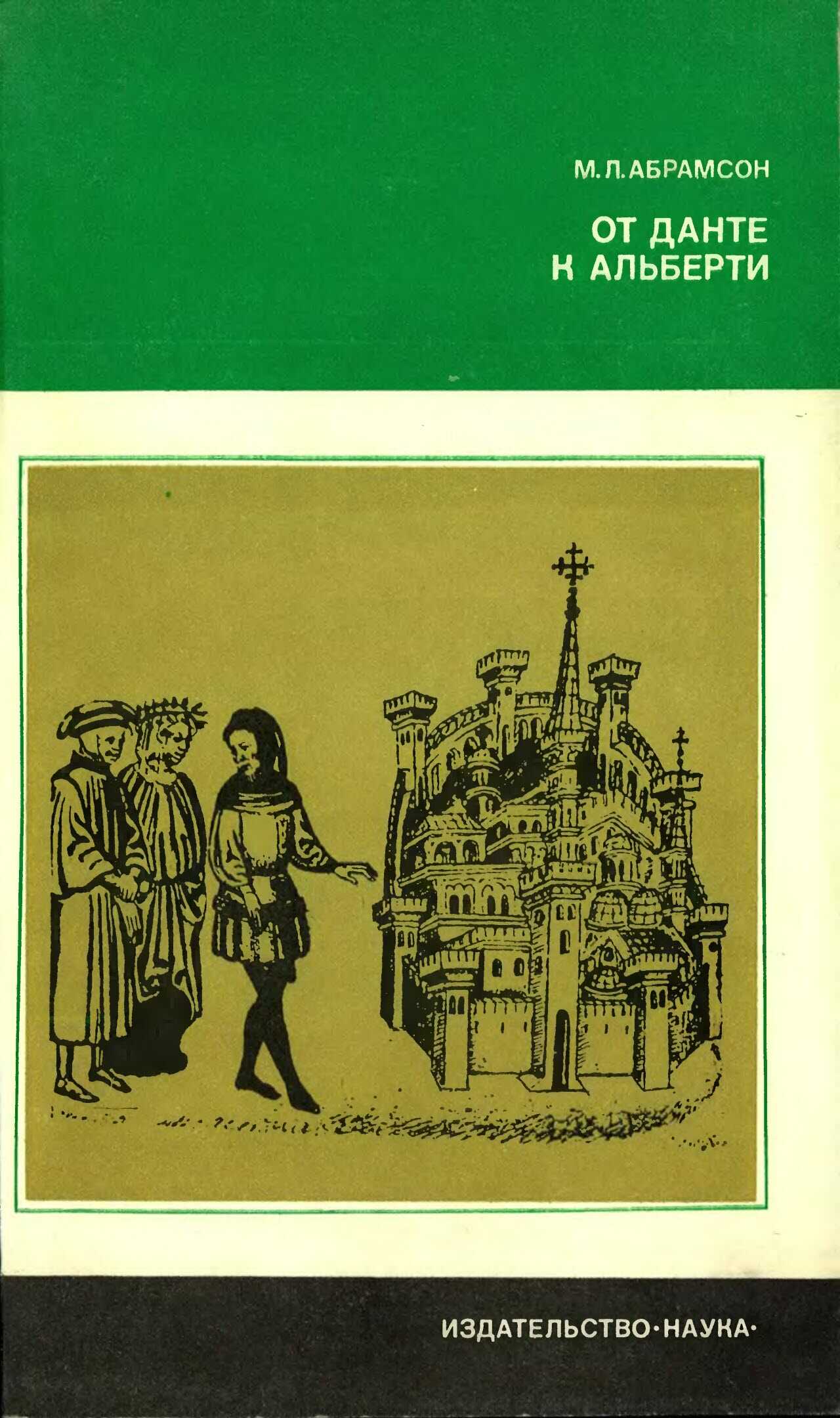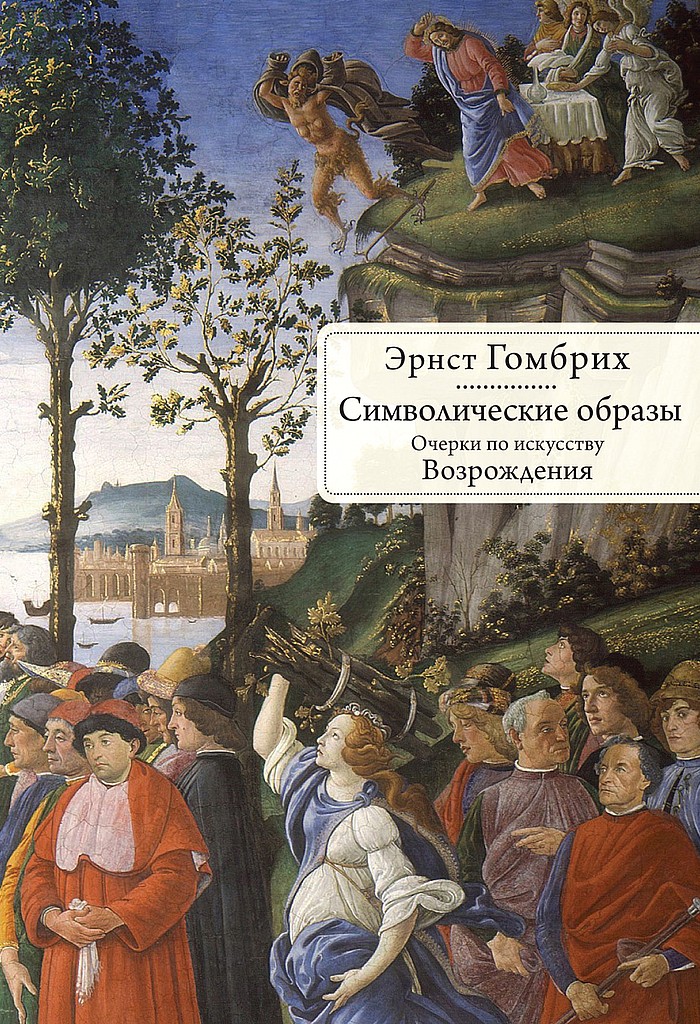происходит из знакомства Пушкина с древнегреческой философией, где земная жизнь человека, вследствие его неведения, уподоблена царству теней. Человек предполагает, но точно не знает. Вот и Пушкин предположил, и мы дерзнули предположить вслед за ним.
Впрочем, мысль о Гомере как о первом поэте (прекрасно-божественном, как скажут в эпоху Данте) Греции дополняется внутри текста стихотворения еще и другой характерной для того же периода мыслью— мыслью о старце не только незлобивом, но и чистом, как младенец. Тождество младенчества и старости — мотив (выявленный нами в стихотворении А. Шенье), важный для литературы того периода, т. е. для периода эллинизма, на который был ориентирован французский, а затем и русский неоклассицизм. На самых ранних иконах младенец Христос изображался с морщинами старца. Младенчество старика, описанного французским поэтом, заключено в его беспомощности и зависимости от встреченных им людей, которые, к счастью, оказываются «…дружелюбными».
За стариком следуют «три пастыря… дети страны той пустынной», которых вполне можно принять за обычных пастухов, но при метафорическом восприятии «картинки» пастухи могут превратиться в учеников, подступающих к Иисусу (их трое, потому что текст новоклассический, приближенный к раннему средневековью, где цифра три становится магической и ключевой).
На земного старика в зеркальном отражении мы смотрим как на Гомера, а на старца — якобы как на ребенка-Иисуса. Представляя себе, как «издали… приближались» пастухи, можно уподобить их волхвам, провозвестникам рождения Бога-сына. По общему мнению русской критики начала XX в. (Д. Мережковского, Вл. Гиппиуса, М. Цветаевой), Пушкин, как никакой другой русский поэт, стоял между двумя безднами — христианства и язычества, между двумя непримиримыми антиномиями, которые «в Пушкине были разрешены в единство»55. Данное стихотворение в «неоклассической традиции, претворенное на русском языке» как раз ярко это нам демонстрирует.
Стихотворение, названное «Слепец», по содержанию представляет собой портрет слепого старца, который, по мере чтения строк стихотворения, постепенно занимает все более широкое пространство в нашем сознании. Синонимический ряд: «слепец (утомленный)»; «(бессилие) старца»; «белоглавый (старик)»; «(одинокий) старик»; Бог? Мы буквально видим (как в кинематографе), как к нам приближается со стороны горизонта фигура, вырастая и меняя значение до превосходного, из бессильной она превращается во всемогущего бога (?).
Появляется очеловеченный бог, белоглавый старик на фоне пейзажа, который принято называть аркадийским, или аркадским. Он очень заметен как в лирике Андре Шенье (стихотворения «Нищий», «Свобода»), так и в живописи, вошедшей в моду в эпоху неоклассицизма. Миф об Аркадии, стране безмятежного счастья нередко воплощается в искусстве неокласицизма той поры (Пуссен, Лоррэн). Художники для своего времени пытаются выразить в идиллическом сюжете идею быстротечности жизни, неизбежности смерти. Так, на картине «Аркадские пастухи» (1630) Николя Пуссен изображает пастухов, неожиданно увидевших гробницу с надписью «И я был в Аркадии…». В момент, когда человек исполнен чувства безоблачного счастья, он как бы слышит голос смерти — напоминание о недолговечности жизни, о грядущем конце: на лицах пастухов видно смятение, они словно предстают перед лицом смерти, вторгшейся в их светлый мир. Все проникнуто ощущением грандиозности и величия мира. Соединение в пластически ясной композиции, основанной на чередовании пространственных планов, фигур, лиц и пейзажа, весьма продуманно, уравновешенно и симметрично. Колористическая при этом гамма сдержанна56.
На других картинах Пуссена («Лето (Руфь и Вооз)», «Похороны Фокиона» и др.) выделяются белые храмы, заметны городские стены. Жизнь идет своим чередом: пастух пасет свое стадо, по дороге волы тянут повозку, и мчится всадник. Прекрасный пейзаж всегда с особой остротой позволяет почувствовать трагическую идею жизни, ощутить одиночество, бессилие человека перед лицом вечной природы.
А. С. Пушкин не видел картин Пуссена (?), но знал о них. Андре Шенье, безусловно, их видел, так же как лицезрел большое количество неоклассических имитаций. Ведь неоклассицизм— стиль, давший цвета и формы Великой французской революции. Величавый образ молодой женщины с картин Пуссена затем перешагнул на картины Делакруа (вспомните «Свободу на баррикадах»). Сплав античных идей с современной им эстетикой на греческий лад нравился как А. Шенье, так и А. С. Пушкину. В умении «антикизировать» спорили художники всех направлений, писатели, поэты, актеры. Но сквозь античные покровы и у Шенье, и у Пушкина всегда пробивается мысль о свободе. Пастушеская муза приветствует человека веселого без тени мрака и угрюмости на лице. Вне свободы труд — тяжкое бремя, а люди— ненавидящие существа. Текст стихотворения «Слепец» представляет собой также повествование, сделанное в подражание эпическому, — размеренности и неспешности эпоса, его «шаговому ходу», напоминающему поступь старца. Об этом свидетельствует особенное употребление глаголов движения (иногда славянизмов): «рек и сел»; «приближались и думали», а также антитезы земли и воды — «волны и небо». Характерным моментом эпического стиля является принцип эстетизации дистанций — пространственных, временных и иерархических57.
Богоподобный старец пришел из реального времени в вечность. Вечность не противоречит движению. Это не неподвижность. Библейские события неподвижны и вечны одновременно. Старец реальный и старец мифический составляют некое диалектическое единство.
Персонаж, который произнес что-то, кажется более значительным, когда он нечто «рек», а затем «сел». Это действие длительное, по природе церемониальное. Церемониальность тоже представляет собой часть эпического стиля — она демонстративна. Простой старик видится пастухам как фигура торжественная. Поэт при этом не столько изображает действительность, сколько подчиняет жизненное явление торжественной, идеализированной форме. Последнее качество можно назвать также и чертой неоклассицизма. (Соотношение между ним и древним эпосом при всем внешнем сходстве еще недостаточно изучены).
Существенной чертой церемонности считается истовая неторопливость и детальное перечисление всего, что участвует в ситуации. Так, три пастуха, стада стерегущие, «ярость уняв» бегущих собак, «внемля ему, приближались и думали». Значительность их действий, временная протяженности, или иначе— дистанция между одним и вторым состояниями— здесь обозначены довольно четко.
«Волны и небо», т. е. земля и вода— это, можно сказать, обыкновенные эпические образы, как рамки, растягивающие пространство повествования, изложения ситуации, простейшего сюжета58. Небольшая фигура старца уже воспринимается как в космосе представленная, но нерастворенная.
Если эпоха классицизма резко разграничивала области ритуализованного и практического поведения, то эпоха романтизма выявила проникновение театральных норм поведения в бытовую сферу. Всем знакомы ситуации типа «общение с природой» или «одиночество средь шумного бала».
Как член общества «Арзамас» Пушкин принимает участие в пародировании ученых академий и масонских лож. Масонские заседания здесь были театрализованной игрой, они прекрасно вписываются в эпоху, театральность которой бросается в глаза. «В начале XIX века грань между искусством и бытовым поведением зрителей была разрушена. Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, дневник и бытовую речь» — пишет Ю. Лотман.