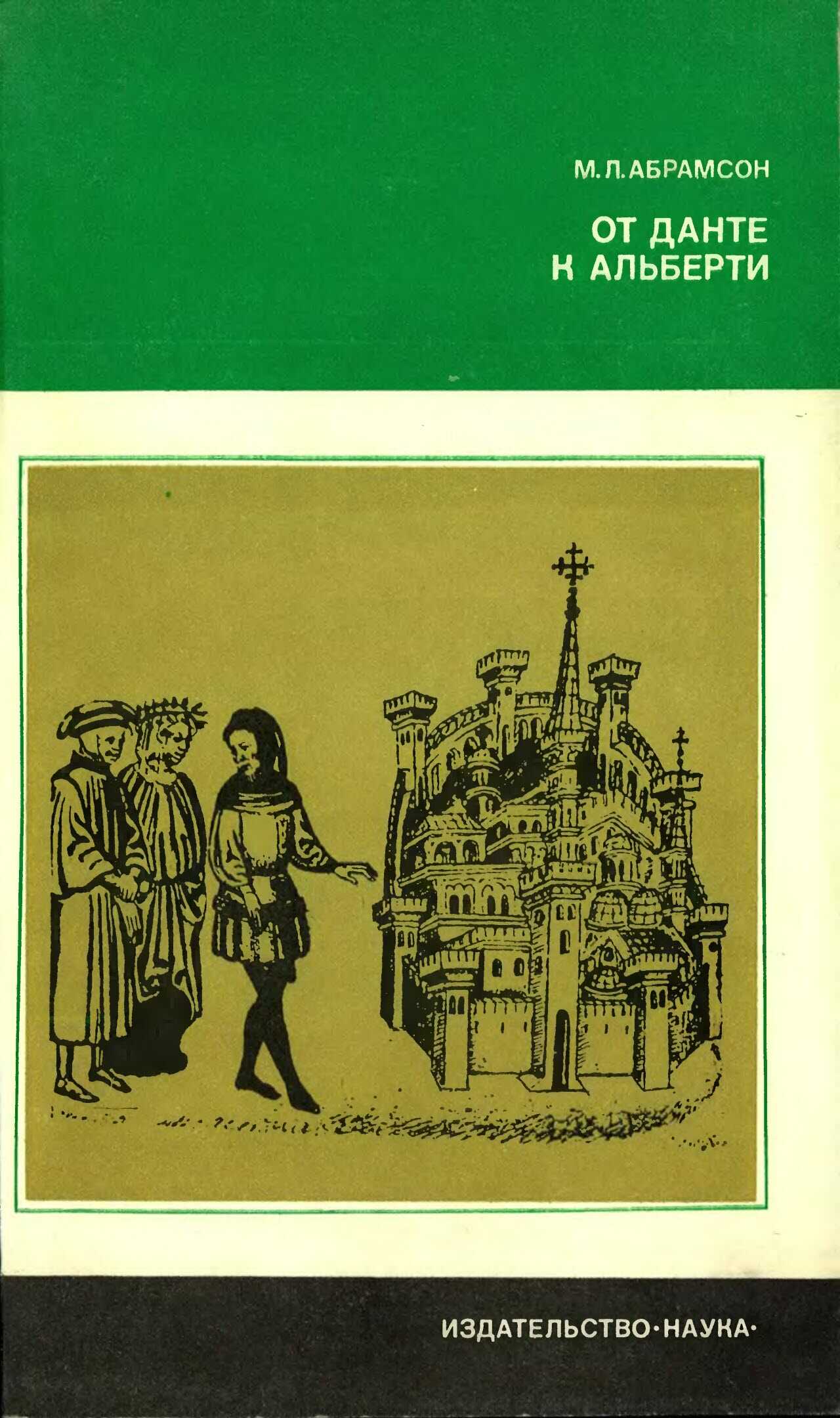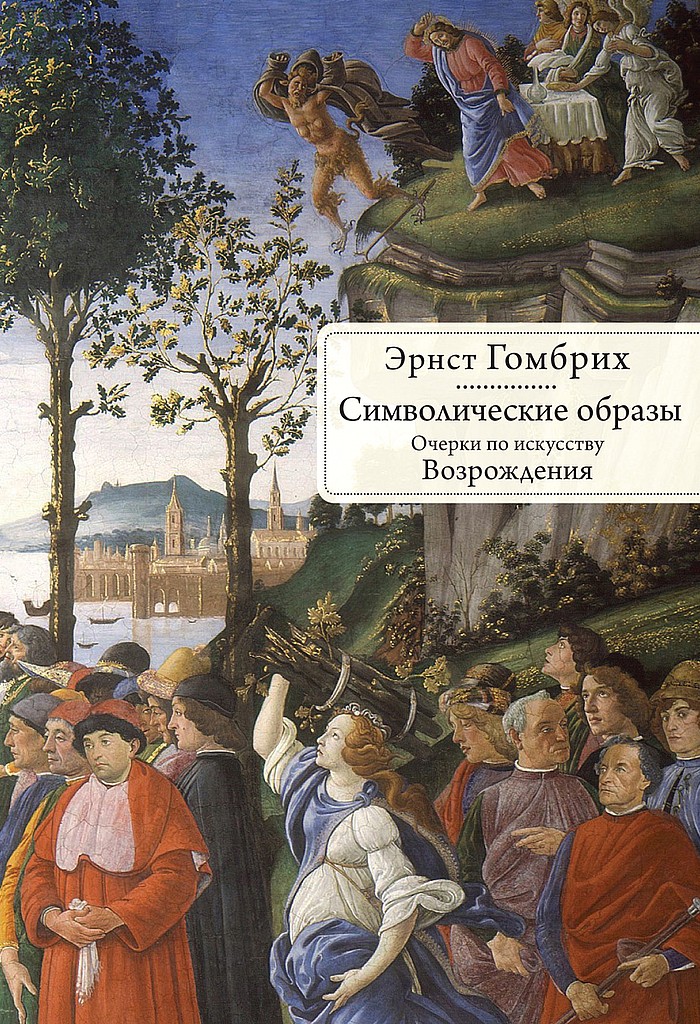class="p1">Помимо гуся — судьбоносной птицы, приносящей благо, атрибута Арзамаса, еще одним символом сообщества стал фригийский колпак, лежавший в центре общего стола. Он использовался сугубо для ритуальных нужд. Арзамасцы, конечно, знали о французских санкюлотах, но знали и другое. Фригийский колпак также один из широко распространенных фаллических символов. В античности избранник Венеры Парис обычно изображался во фригийском колпаке. У жрецов Кибелы красный (кровавый цвет) фригийского колпака символизировал готовность к жертве. От них фригийский колпак заимствовали масоны, и это в числе прочей символики унаследовали якобинцы. Далее в XX веке фригийский колпак осознается как головной убор средневековых шутов и жонглеров59.
Поколение Пушкина уже «преодолело» Андре Шенье, потому что был Байрон, холодный романтик. То, чем еще духовно горел Шенье для Пушкина нечто далекое, воспринимаемое и как античность (в переводе-подражании Гнедича) и, возможно, как аллегория т. е. анализируемое стихотворение написано на широко распространенный в масонской литература сюжет. Позволим себе предложить еще одну трактовку пушкинского перевода из Андре Шенье.
Для масонской литературы очень характерен образ слепца; можно сказать, что это центральный ее образ, встречающийся и в прозе, и в поэзии (оды В. Майкова, поэмы М. Хераскова). Он восходит к орденской концепции падшего человека и связан с масонской критикой просветительства, возвещавший «царство разума» на земле. В романе о Нуме Помпилии Херасков, не до конца порвавший еще с просветительскими идеями Фенелона, изобразил легендарного римского царя, черпающего законы из «просвещенного разума». Этой идее масоны противопоставляли идею «повреждения», слепоты, прискорбной слабости человеческого разума.
Если все же отрешиться от трактовки «Слепца», как образа масонской поэзии, и вернуться к нему как наиболее оригинальному и удачному подражанию греческому, то стоит отметить, что Пушкин еще до официальных высказываний в пользу яркого таланта Андре Шенье со стороны Альфреда де Винви, Альфреда де Мюссе и Виктора Гюго, отнесся к нему с энтузиазмом и написал прекрасную элегию на смерть поэта поняв значение Шенье, как обновителя поэтического языка.
Что же касается трактовки слепца, как Гомера, то именно так его воспринимал, например, О. Мандельштам, сказавший о Шенье, что он «принадлежал к поколению французских поэтов, для которых синтаксис был золотой клеткой, откуда не мечталось выпрыгнуть. Эта клетка была окончательно построена Расином и оборудована, как золотой дворец»60.
Какой именно, тот или иной образ слепого старца являлся Пушкину, ответить трудно. Можно только добавить, что стариком в его сознании был и Н. М. Карамзин, выдающийся русский писатель, которого в начале своей творческой жизни поэт почему-то очень пугался, ведь его супруга Е. А. Карамзина была «предметом его первой и благородной привязанности. Умирающий Пушкин в минуту небольшого облегчения воскликнул: «Карамзина? Тут ли Карамзина?» Когда же Екатерина Андреевна оказалась в комнате, он попросил ее, чтобы она его перекрестила. Видимо, она чем-то была особенно Пушкину дорога. Если бы она было просто вдова историографа и светская знакомая, встречавшаяся еще намедни, вряд ли бы такое прощание имело место»61.
Критика классицизма как «века позы» в аллегорическом видении стиха не означает отказа от жеста в романтическом варианте. Сдвигается область значимого. Ритуализация, семантическое содержание перемещаются в сферы поведения, которые прежде воспринимались полностью, как внезнаковые. Простая одежда, небрежная поза, трогательное движение делаются носителями новых культурных значений абсолютно естественно, однако прощание с Карамзиной было не только романтическим, но и знаковым.
Виктор Гюго как художник
Французские литераторы XIX в. часто бывали одарены как художники и иногда даже специально подготовлены. С интересом и глубоко они пишут об искусстве, выступают как художественные критики. Достаточно вспомнить де Сталь, Стендаля, Гюго, Мериме, Мюссе, Нерваля, Бальзака, Флобера, Золя, Бодлера, Гюисманса и т. д. Нерасторжимую связь искусства писателя с искусством художника мы видим и в XX в., для которого вообще характерна синтетичность. Виктор Гюго один из тонко чувствующих гармонию стихотворцев, чьи сенсомоторные движения уже «уловлены» психологами и чья принадлежность определенным эстетическим воззрениям ставит их в соответствующую связь с идеологической доминантой эпохи.
Около трех тысяч рисунков создал Виктор Гюго. Сегодня их подразделяют на те, что были выполнены до его изгнания на о-в Джерси, на те, что были написаны во время ссылки и на те, что появились по возвращении на родину. В одном из писем Шарлю Бодлеру (1860) он писал: «Я счастлив и горд, что вы так хорошо отзываетесь о моих перовых рисунках. Теперь я также пользуюсь карандашом, сепией и углем и разного рода их сочетаниями, позволяющими мне реализовать то, что стоит у меня перед глазами или возникло в голове между двух четверостиший»62. Большинство рисунков Гюго — это романтика поэта, любующегося морской далью или готическим собором, крепостью или пароходом, набежавшей высокой волной или раскинувшимся на холме городом. Гюго сам иллюстрирует роман «Труженики моря», предлагает нам портрет своего главного героя. На его рисунках можно увидеть леди Джозиану, красивых и не очень красивых женщин. С соблюдением всех деталей он изображает виселицу в Монфоконе, представляющую собой маленькую фабрику смерти, пытается вообразить одного из повешенных. Поэт-художник видит морские бездны и скрюченные под напором ветра деревья, развалины замков и печальные профили. На созданной им новогодней открытке, посланной Полю Мериссу (1857), изображен пострадавший от сильных ветров корабль. Писатель сопроводил рисунок следующим текстом: «Я начертал здесь мою судьбу: разбитый бурей корабль посреди враждебного океана, потерявший управление, гонимый то ураганами, то туманами; имеющий лишь дым славы, единственную свою силу, еще не развеянную ветрами…»63.
Романтическая живопись писателей-романтиков (рисунки, акватинты, гуаши) представляется в целом очень спокойной, навевающей мысли о вечности и о счастье того, кто взялся за карандаш или кисть. На ее фоне графика В. Гюго мятежна и даже немножечко нервна. Волны обозначены им в непрерывном движении, — городские улицы мрачны и скрывают какую-то тайну, кажется, вот-вот произойдет внезапное нападение или появится страшное чудовище. Критики, изучавшие с художественной точки зрения, творчество Гюго, называют его профессионалом и отмечают, что 450 рисунков писателя передают борьбу света и тьмы. Так же как Жорж Руо, он приглядывается к мастерам средневековья; так же как Тулуз-Лотрек, он ухватывает карандашом спонтанность жеста и движения; так же отстраненно, как Домье, Гюго передает иронию. По тональности рисунки В. Гюго мрачноваты, в них много серых, черных или желтоватых оттенков. Дело в том, что у В. Гюго-рисовальщика была своя техника: он пользовался для создания богатой желто-коричневой гаммы сладкой кофейной гущей. Ему прекрасно удавались офорты, но писатель знал, что создание одной подобной работы отнимет у него много времени, и он