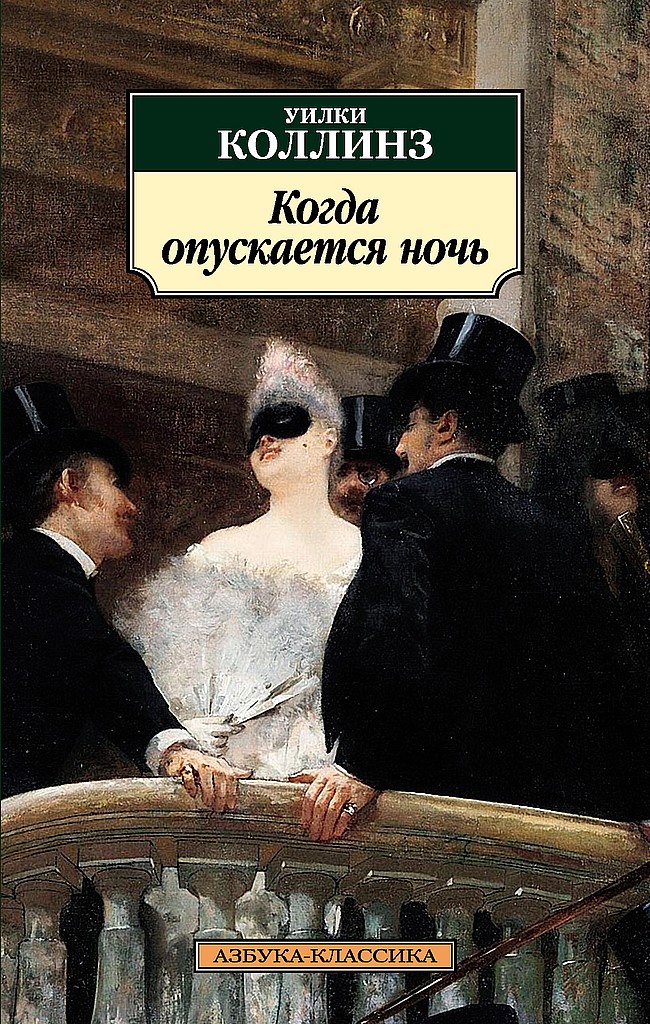словами, при выборке по зависимой переменной 70% лиц, совершавших подобные действия, не сообщали о том, что сами им подвергались. Б. Иджленд, делая выборку по независимой переменной в рамках многолетнего исследования, обнаруживает масштаб такого перехода в 40% [Egeland 1993: 203]; однако в данном случае исследование было посвящено последствиям жестокого обращения и не охватывало всю группу лиц, жестоко обращавшихся с другими людьми. Кроме того, этот результат был получен при исследовании семей, в которых присутствовали многочисленные источники стресса; при более широкой выборке, с меньшим количеством факторов риска, уровень перехода насилия из поколения в поколение мог бы с легкостью оказаться ниже. Так или иначе, приведенные показатели гораздо выше, чем оценки уровня жестокого обращения с детьми среди населения США в целом, составляющего примерно 2–4% [Straus, Gelles 1986]. Пережитый опыт жестокого обращения имеет определенное причинное воздействие на дальнейшее аналогичное обращение с другими. Если расширить определение жестокого обращения, включив в него все разновидности телесных наказаний, то этот прогнозирующий параметр окажется очень слабым, поскольку людей, которые подвергались телесным наказаниям в формах, не доходивших до крайностей, гораздо больше (около 90%), чем тех, кто в следующем поколении допускает крайне жестокое обращение с другими людьми. М. П. Джонсон и К.Дж. Ферраро, подводя итоги изменений позиций исследователей в 1990‑х годах, отмечают, что большинство работ предшествующего десятилетия, благодаря которым получило популярность объяснение с использованием термина «цикл жестокого обращения» (cycle of abuse), были основаны на клинических данных, не имели контрольных групп и опирались на ретроспективные сведения [Johnson, Ferraro 2000].
3
Аналогичная ситуация с трансляцией в следующее поколение насилия между супругами по примеру родителей. Джонсон и Ферраро указывают, что «даже в той группе мужчин, чьи родители имели два стандартных отклонения выше среднего уровня насилия между семейными партнерами, 80% взрослых сыновей за последние 12 месяцев ни разу не совершали актов жестокого насилия по отношению к своим партнершам» [Johnson, Ferraro 2000: 958].
4
Для сравнения можно рассмотреть привычную неэффективность миротворческих сил в ходе этнонациональных конфликтов. Местные боевики быстро осознают, что в силу альтруистических склонностей войск ООН и других нейтральных сторон угроза применения насилия в их отношении оказывается неправдоподобной. Поэтому боевикам не только не препятствуют в дальнейших нападениях на своих местных противников – они еще и, как правило, воруют гуманитарные грузы и шантажируют миротворцев, заставляя их вести себя угодливо в обмен на любое проявление сотрудничества [Oberschall, Seidman 2005; Калдор 2015].
5
Мартин Дейли и Марго Уилсон утверждают, что отчимы и другие лица, не приходящиеся детям родственниками, гораздо более склонны причинять вред детям своих сексуальных партнеров, тогда как биологические отцы этого не делают благодаря генетической склонности к максимальному распространению собственных генов [Daly, Wilson 1988]. Тем не менее в любой подобной генетической теории должен быть представлен механизм, при помощи которого действует эта дифференцированная склонность к насилию над детьми. Принцип действия этого механизма должен представлять собой нечто вроде дифференцированного восприятия борьбы с плачущим и требующим внимания ребенком. Чисто социологическое объяснение заключается в том, что у биологических отцов (пусть не у всех, но у многих) уже имеются успешные ритуалы взаимодействия обоих родителей с ребенком, находящимся в фокусе внимания, – ребенок становится сакральным объектом, эмблемой их отношений и их идентичности как семьи. Отсутствие этой символической связи в виде уважения к маленькому ребенку (сколь бы сильное давление на нее ни оказывали другие процессы) и выступает ключевым отличием, объясняющим, почему лица, не являющиеся кровными родителями, совершают больше насилия в отношении детей своих партнеров. Эту гипотезу можно проверить: в таком случае биологические отцы, у которых не было ритуальных контактов с матерью и ребенком в период беременности, должны вести себя как лица, не являющиеся отцами, в своей склонности к жестоким действиям.
6
Точно так же идеологические установки родителей не имеют значения в случае с объемом телесных наказаний, применяемых в отношении подростков, – вероятно, это связано с тем, что у родителей имеется более значительный диапазон ресурсов контроля, из которых можно делать выбор [Straus, Donnelly 2001: 208]. Согласно имеющимся исследованиям, родители бьют примерно 50% подростков в течение любого отдельно взятого года [Dietz 2000; Straus 1994].
7
См.: [Daly, Wilson 1988: 37–94]. С точки зрения эволюционной психологии матери убивают своих детей, когда приходят к выводу, что у них отсутствуют хорошие шансы воспитывать их до зрелого возраста. Однако есть сомнения, что матери, совершающие детоубийство, руководствуются подобными рационалистическими соображениями, – зачастую они поступают так в виде реакции на собственную стигму, связанную с нежелательным или незаконным в глазах социума рождением ребенка [Kertzer 1993].
8
Если обратиться к использованию телесных наказаний в учебных заведениях, то этим были печально известны некоторые традиционные католические школы, где монахини применяли дисциплинарные методы, граничащие с пытками, например заставляли детей сидеть на горячих батареях. Кроме того, монахини иногда применяли жестокие наказания к послушницам в женских монастырях. Причиной того, что монахини применяли больше насилия, чем другие современные педагоги, являются насыщенный духовным пафосом характер власти в подобных организациях, а также присущий им в более значительной степени традиционализм. В данном случае хотелось бы подчеркнуть, что во всем этом нет ничего изначально мужского: там, где женщины располагают предельной степенью контроля над другими, они также применяют насилие.
9
Чем больше детей имеют матери, тем больше вероятность того, что они применяют телесные наказания и жестоко обращаются с детьми [Eamon, Zuehl 2001]. Это вполне объяснимо, поскольку женщины в такой ситуации больше поглощены воспитанием детей, в большей степени социально изолированы и располагают меньшим объемом ресурсов для контроля над каждым ребенком – в конкретной подобной ситуации насилие оказывается наименее затратным и наиболее быстро применимым методом контроля. Однако это обстоятельство также означает, что женщины, которые, на первый взгляд, воплощают собой «материнство», в то же время проявляют и наибольшую жестокость по отношению к своим детям. В структурном отношении перед нами та же самая картина, что и в случае с немецкими солдатами, которые демонстрировали больше жестокости при сборе жертв Холокоста для отправки в концентрационные лагеря (и убивали их большее количество, в пропорции 4:1) в ситуациях, когда соотношение между количеством охранников и заключенных было низким [Browning 1992: 95]. То же самое можно утверждать о тюремных охранниках, которые изолированы от внешнего мира и сильно превосходят по