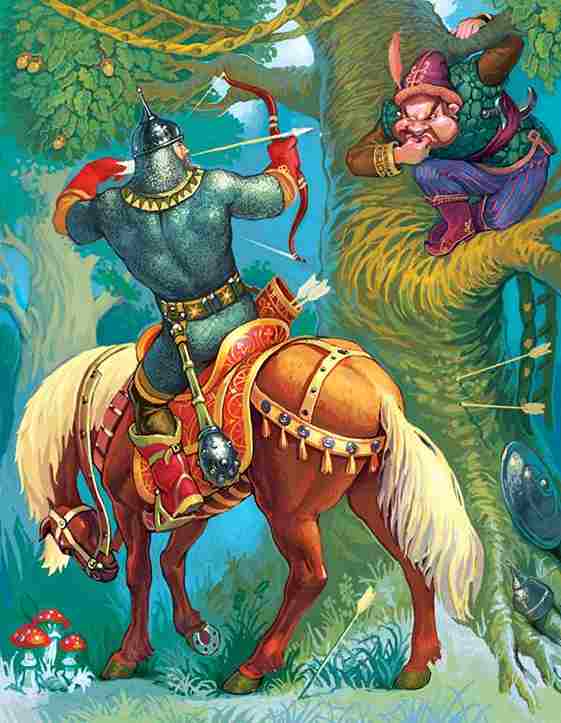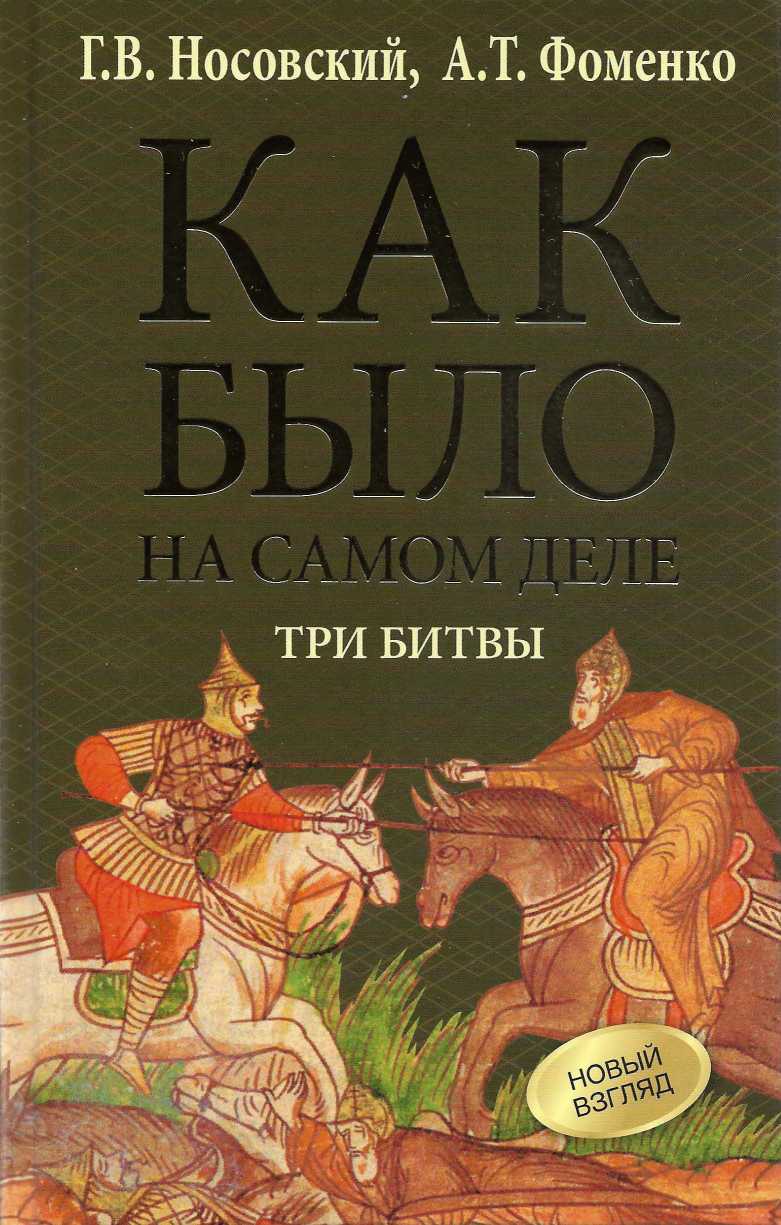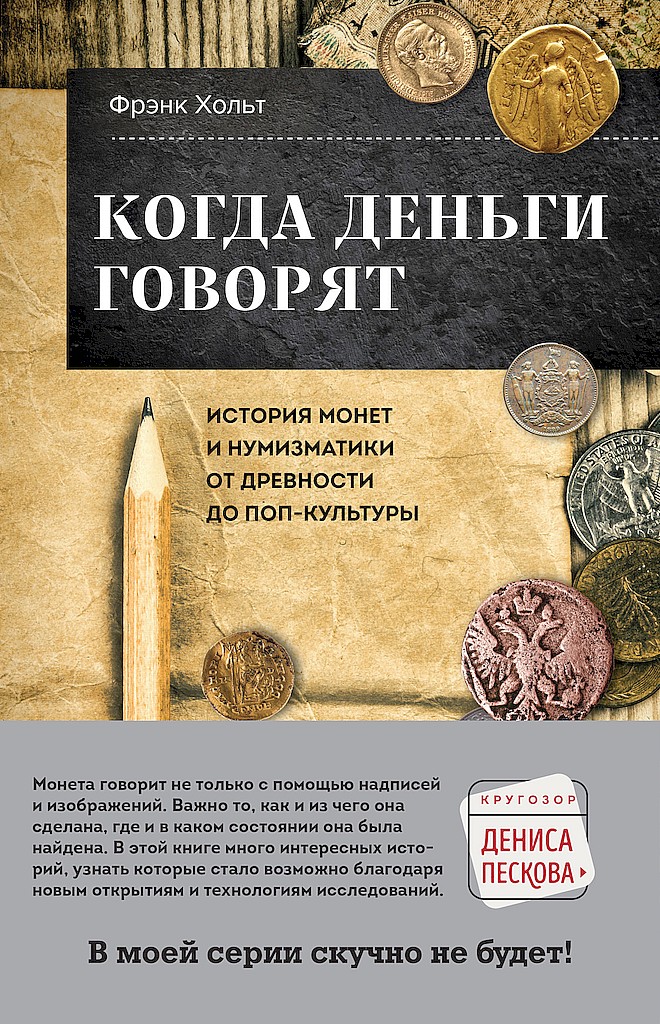обозначаемое пометой «тихая» (другие названия — «кроткая», «звательце»). Это — ОЧЕВИДНАЯ ОШИБКА, поскольку данное ударение ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО употребить в середине или в конце слова. «Тихая помета ставится в начале слова над безударными гласными, которые следует произносить тихо» [672:1], 27.
Эта картина поразительна. Если уж в таком случае допускались грубые ошибки в церковнославянском языке (вплоть до ЗАМЕНЫ БУКВ НА СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ), то что говорить о якобы древних русских монетах, изготовленных фальсификаторами в те же времена? Вряд ли фальсификаторы эти были более грамотны в церковнославянском языке, чем изготовители памятника на тульском «Куликовом поле».
Может возникнуть вопрос — кто же готовил надпись на тульском «Куликовском» столпе? Ответ следующий. «Надпись на памятник готовил лично историк H. М. Карамзин» [253:1].
Остановимся на истории этого памятника подробнее, следуя статье «Драгоценный для каждого русского памятник...», опубликованной в 2020 году в тульской газете.
«Считается, что история памятника началась после громкой победы русского оружия над Наполеоном Бонапартом и небывалого успеха многотомной "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина» [253:1]. И конечно же (о чем умалчивается в статье), после «открытия Куликова поля» тульским помещиком С. Д. Нечаевым в собственном имении в начале XIX века. См. подробности в наших книгах «Новая хронология Руси» и «Где ты, поле Куликово?».
Продолжим цитирование статьи: «поданая властям мысль о создании памятника весной 1820 года тут же приобрела поддержку... и, наконец, получила высочайшее одобрение. В конце августа . 1824 года рескриптом императора Александра I была открыта подписка на добровольные пожертвования для создания мемориала Куликовской битвы, состоящего из обелиска Дмитрию Донскому, храма Сергия Радонежского и жилья для ветеранов наполеоновских войн... Для строительства собрали гигантскую по тем временам сумму, превышающую 220 тысяч рублей серебром, или 539 тысяч рублей ассигнациями...
После нескольких доработок в марте 1836 года проект памятника, храма и богадельни для увечных воинов был утвержден Николаем I. Однако проект... на долгие 10 лет лег под сукно. Лишь в феврале 1845 года... император вновь вспомнил о проекте А. П. Брюллова и еще раз круто изменил свое решение... Он решил большую часть денег, собранных на мемориальный комплекс (160 из 220 тысяч рублей серебром) отдать на строительство губернских кадетских корпусов, а на Куликовом поле ограничиться только чугунным монументом...
Прошло еще четыре года — они были потрачены на разработку и утверждение нового проекта, технической документации, проведение конкурсных процедур, отливку чугунных деталей памятника, их перевозку к месту строительства и сборку... Монумент был выполнен в виде полой, богато декорированной чугунной колонны высотой 28 метров и весом 428 тонн... Внешне чугунный обелиск выглядел согласно разработанной документации, но внутри он имел существенные отклонения от проекта, которые подрядчики сумели утаить.
8 сентября 1850 года, в год 470-летия битвы и 500-летия со дня рождения Дмитрия Донского, памятник был торжественно открыт в присутствии губернатора, представителей дворянства, духовенства и множества крестьян. Однако ни Николай I, бывший накануне в Москве, ни его сыновья великие князья Николай и Михаил, танцевавшие на балу 7 сентября в Туле, на открытие памятника НЕ ПРИЕХАЛИ... В 1967 — 1978 годах была проведена первая реставрация памятника... после углубленного обследования колонны в 2000 — 2003 годах оказалось, что монументу грозит полное разрушение... главный сюрприз ожидал специалистов внутри колонны, где стальной столб, на котором должны были крепиться все ярусы сооружения, полностью отсутствовал. Вместо него стояла лестница, сбитая из сосновых бревен... было решено его полностью демонтировать... Был залит новый фундамент памят-
ника, а затем произведена сборка с установкой внутри монумента несущего стального каркаса... Реставраторы заново покрыли позолотой купол, иконы и буквы надписей на памятнике» [253:1].
Налицо явно пренебрежительное отношение императора Николая I к «Куликовскому столпу», а следовательно — и к «открытию» Нечаева. Скорее всего, при дворе прекрасно понимали, что Нечаев просто нафантазировал со своим «открытием Куликова поля» в принадлежащем ему имении. Вероятно, «Куликовский столп» был в конце концов возведен лишь потому, что деньги на него были собраны и за них требовалось как-то отчитаться.
Были ли при этом использованы именно те надписи, которые подготовил лично Карамзин, или какие-то другие — неизвестно. Возможно, за надписями недосмотрели. Но, возможно, причина была в другом. В те времена могло бытовать мнение, что «древний» язык Руси сильно отличался от церковнославянского языка. А потому, чтобы изобразить «древность», надо, дескать, церковнославянский язык как-то исказить. Чтобы не был слишком похож на современный.
В любом случае вопиющая безграмотность надписей на тульском «Куликовском столпе» явно перекликается с такой же безграмотностью надписей на создаваемых в те же времена поддельных «древних киевских монетах». И, вероятно, имеет общую с ней причину.
2.7. МЕДНЫЕ «СРЕБРЕНИКИ ЯРОСЛАВА», ВЕРОЯТНО, БЫЛИ ОБРАЗЦАМИ ДЛЯ ПОДДЕЛОК, КОТОРЫЕ СЛУЧАЙНО СОХРАНИЛИСЬ И ПОПАЛИ В РУКИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
Прочитав заголовок данного раздела, читатель может удивленно спросить — что значит «медные сребреники»? Разве могут быть «сребреники» медными? Разве сребреники не должны быть изготовлены из серебра? Пусть некачественного, с добавлением меди — но все же из серебра?
Рис. 84. Два совершенно одинаковых медных «сребреника Ярослава» и обломок точно такого же серебряного «сребрениками Ярослава». Цифрой 6 обозначен экземпляр А. А. ка, цифрой 4 — экземпляр Берлинского музея. Взято из [848:3], Табл. 13, № 3, 4, 6
Оказывается — могут. Наряду с серебряными «сребрениками древних киевских князей» были найдены также МЕДНЫЕ «СРЕБРЕНИКИ» — точно такие же, с той же надписью «сребро» — но ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЖЕЛТОЙ МЕДИ, без малейших добавок серебра. См. рис. 84.
И. И. Толстой пишет по этому поводу: «Обращаемся теперь к монетам, описанным под № 109. Из ТРЕХ ИЗВЕСТНЫХ НАМ ОДНОРОДНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ... один... — это серебряный кусок, найденный в Познани, ДВА ДРУГИЕ, МЕДНЫЕ...
Серебряный кусочек найден в кладе, открытом в 1880 году в Познани (место неизвестно)... Из двух медных экземпляров, находящийся в Берлинском Музее (то есть первый медный экземпляр — Авт.) приобретен, согласно протоколу, в 1855 году от торговца монетами Гуго Гарте в Кёльне... Экземпляр А. А. Куника (то есть второй медный экземпляр — Авт.) происходит из коллекции Данненберга... г. Куник... приобрел ее... у Варшавскаго еврея... Спрошенный о происхождении меднаго сребра, г. Данненберг мог только сказать, что оно приобретено в Ганновере от лица, не возбуждающаго никакого подозрения.
Вот все, что известно о происхождении этих двух монет, который мы считаем несомненно литыми (обе монеты из желтой меди)» [848:3], с. 67.
Толстой полагает, что медные «сребреники» — литые, то есть, скорее всего, поддельные. С ним