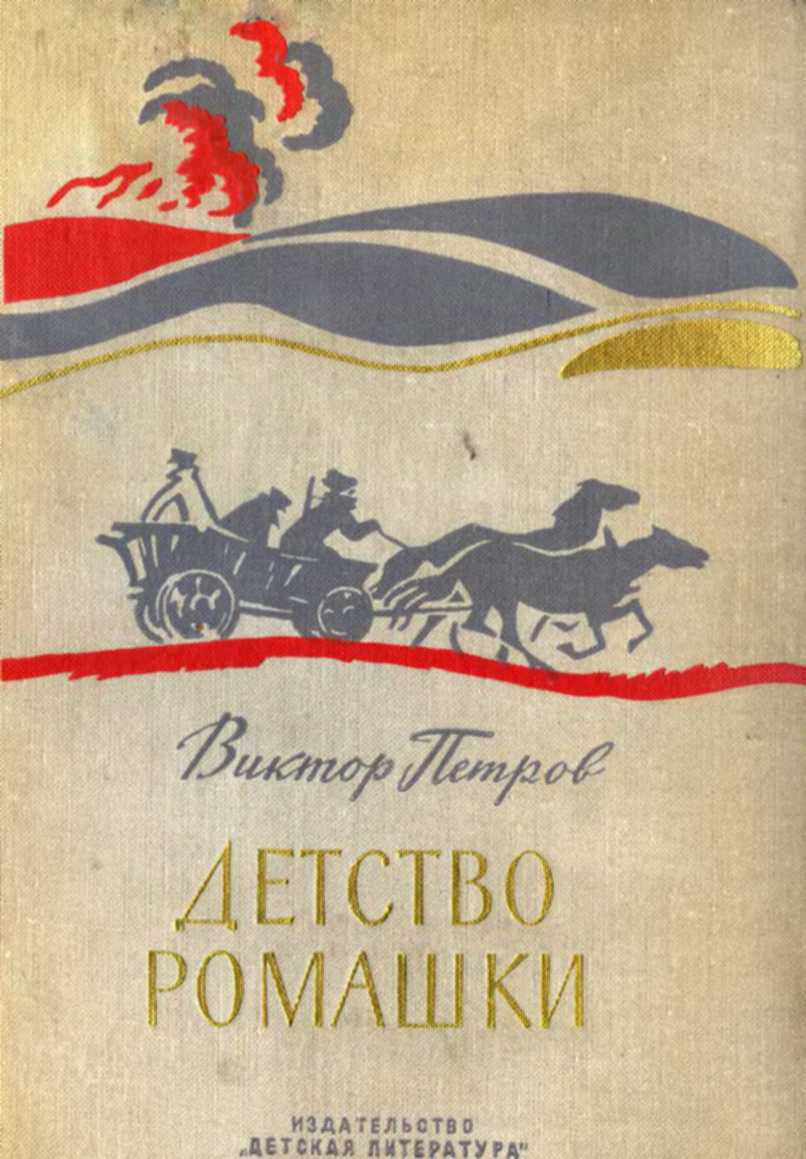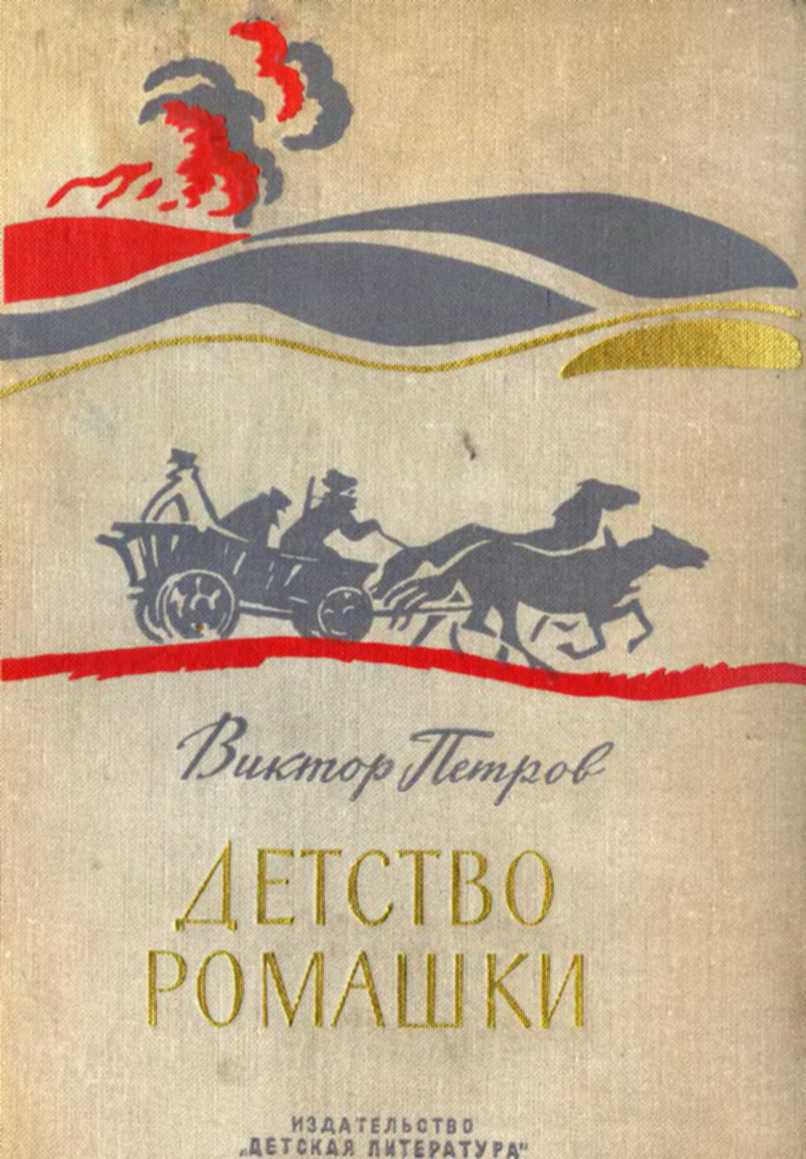улицам, толкая тележку, сил кричать у меня не было. Женщины показывались в окнах, спускались, давали мне старые вещи, меняли их на другие, что-то покупали и клали мне в руки деньги, но у меня уже не было ни голоса, ни энтузиазма. Работа и жизнь меня больше не радовали.
А потом она мне приснилась. Она сидела рядом со мной, смотрела на меня и говорила: «Мануэ, Бог дает, и Бог забирает. Разве я тебя этому не учила?» Она говорила, что жизнь идет вперед, что я устраиваю трагедию. «Нет, Мануэ, никаких трагедий, уж прошу тебя, ведь нам они никогда не нравились».
Глава 21
Мне девяносто один год, и сегодня утром, как обычно, я еду в трамвае. Люблю гулять по Риму пешком или кружить на общественном транспорте. Если мне надоедает, я вызываю такси и еду домой.
Когда я думаю о прошлом, то говорю себе, что среди стольких поездов, которые несли евреев к смерти, был один трамвай, который вынес мальчика двенадцати лет к жизни. Моя мать остается в моем сердце большой любовью, я помню ее живой, молодой, тридцатисемилетней, младше моей внучки, которой сейчас сорок три.
В концентрационный лагерь, где она погибла, мы летели на самолете. Нас собралось человек пятьдесят. Мы приземлилась в Хорватии и оттуда на автобусе доехали до Аушвица-Биркенау. Стоял июнь, но было прохладно, все надели куртки.
— Мы находимся в самом эффективном нацистском лагере смерти, — сказал экскурсовод. — Здесь были повешены, застрелены, умерли от голода, газа, пыток более четырех миллионов человек, почти все — евреи.
Аушвиц состоит из множества комплексов, один из самых крупных — Биркенау. Нам пришлось очень много ходить. Многие, младше меня, отстали, а я смог обойти его весь. Мы покрывались гусиной кожей — больше от тишины, чем от холода. Там царило абсолютное безмолвие. Каждый думал о своих усопших, мы шли будто похоронной процессией, смерть была в каждом сантиметре земли, в каждом глотке воздуха.
Когда мы приблизились к баракам, многим женщинам из группы стало плохо. Нам показали комнаты, полные волос, чемоданов, очков, детской обуви… Сейчас там музей. Я старался понять, что именно мама успела увидеть, на что падал ее взгляд, осознала ли она, что ее посылают на смерть, или она правда думала, что их отводят в душевые помыться после тяжелейшего путешествия. Наверное, хорошо, что она умерла сразу и не страдала так, как остальные.
Вдруг экскурсовод сообщил, что в этот лагерь отвезли людей из римского гетто 16 октября. Тогда Джемма, единственная сестра, которая у меня осталась, сказала: «Вот где умерла мама». Раввин ее услышал, прервал объяснения экскурсовода и тихо произнес: «Споем псалом для Вирджинии Пьяццы».
Мы спели псалом и окончательно попрощались с ней.
Я думаю о маме. О ее руках, голосе, спагетти с сыром и перцем, которые она готовила лучше всех, о каплях дождя, сверкающих в ее волосах, когда она выглянула в окно и увидела немцев. Она показалась мне тогда очень красивой. И внутри меня она осталась такой же. Никто во всем мире не любил меня так, как она.
Я еду на трамвае мимо Торре-Арджентино и вспоминаю лиру, никелевую монетку. Я играл рядом с дверью в дом (у нее был большой замок, который открывался мощным железным ключом), засунул монетку в замок и не смог вытащить. Повезло, что ключ все равно поворачивался, иначе мне бы влетело и за потерянную лиру, и за испорченный замок. Прошло время, и я об этом позабыл.
Несколько лет назад воры взломали дверь в попытке ограбить квартиру, но так и не вошли: я как раз возвращался домой, они услышали шаги на лестнице и убежали, пройдя мимо меня еще до того, как я понял, что происходит.
Я вызвал слесаря, чтобы поменять замок, он уже был старый, и если воры вернулись бы, то без труда вынесли бы все. И тогда нашлась та монетка. Она оставалась там больше семидесяти лет. Когда она оказалась у меня в руке, я снова почувствовал себя ребенком. Словно мама опять работает за машинкой «Зингер», дедушка подвешивает на крючок салями из говядины, солнце светит в окно. На дворе прекрасный день, я думаю, что, хоть лира и упала в замок, я всегда могу ее достать.
Мама осталась у меня в сердце, как эта монетка в замке. Только вот мое сердце никому не взломать.
Мама здесь, внутри меня.
Навсегда.
Послесловие автора
Я и Эмануэле
Некоторые книги пишутся исключительно по любви, потому что только она может стать тем топливом, что зажигает страницу, придавая ей силу правды.
Я влюбилась в мальчика, которого спас трамвай во время облавы 16 октября 1943 года. Услышала о нем в документальном фильме и влюбилась в его историю.
«Столько поездов с евреями, которых посылали на смерть. И один трамвай, который везет мальчика к жизни… Трамвай в жизнь…» Прекрасная история, история о надежде в ужасные времена (во времена трагедии, сказал бы Эмануэле).
Я думала об этом ребенке неделями: представляла нашу встречу тет-а-тет. Потом этого стало мало: я хотела узнать, как сложилась его жизнь, что он делал после спасения, бежал ли из Рима, что произошло с остальными членами его семьи. Вопросы варились у меня в голове, я думала, они останутся без ответа.
И вот однажды между делом я рассказала эту историю Луке, своему другу-священнику из Иерусалима.
— Я могу попробовать навести справки, — сказал он, — но мне нужно имя.
Где раздобыть это имя? Я видела только кусок документального фильма, к тому же постановочную часть, там не было информации о самом мальчике. Я начала искать в Сети, отыскала фильм, прокрутила курсор и… нашла его.
«Его зовут Эмануэле ди Порто», — написала я сразу Луке.
Он ответил, что спросит у своих друзей и даст мне знать.
Я надеялась найти его внука, дальнего родственника, который, может, жил с ним рядом и в каком-то смысле вернул бы мне его. Но шли дни, а новостей все не было.
Потом однажды утром: «Он жив. Вот его номер телефона», — написал Лука.
У меня сильно забилось сердце. Я стояла с телефоном в руке и не знала, что ответить.
Тогда Лука позвонил:
— Разве это не прекрасная новость? Попробуй его набрать.
— И что я ему скажу?
— Что хочешь узнать его историю. Вот увидишь, он будет счастлив тебе ее рассказать.
Я не была в этом уверена. Мужчине девяносто один, может, он не желает, чтобы его беспокоили, может, он не хочет вспоминать,