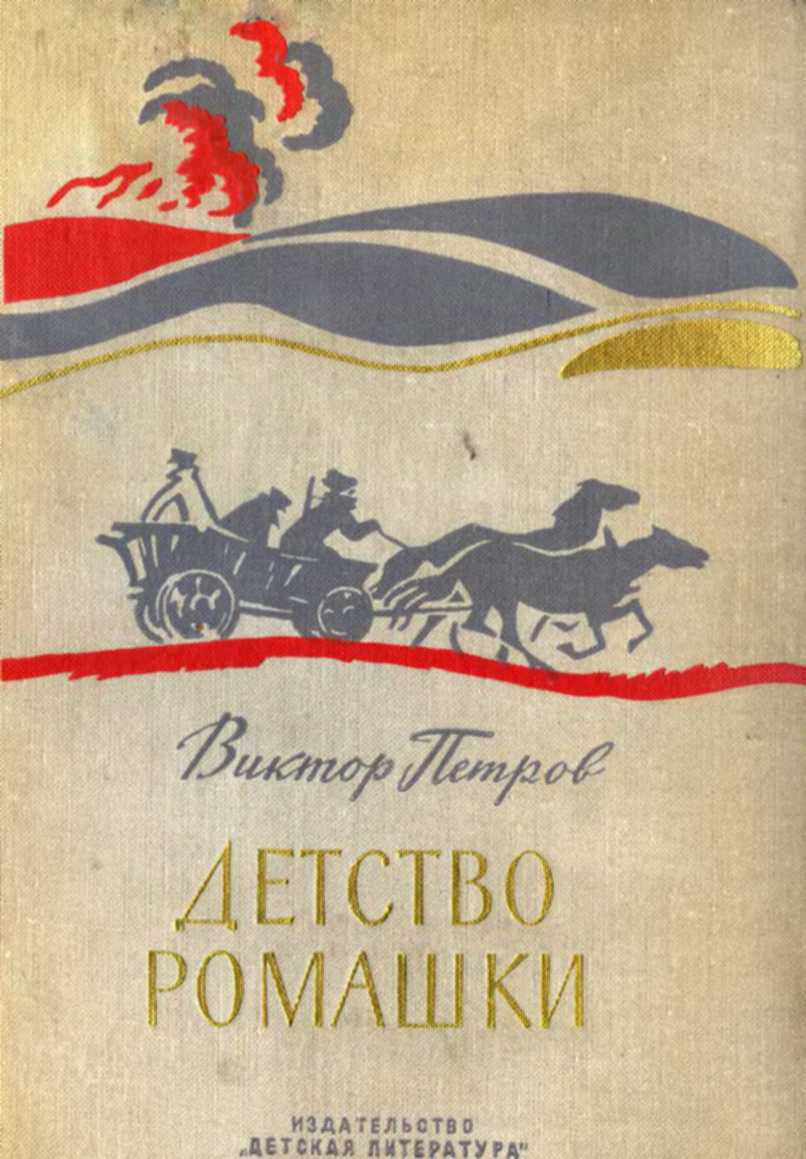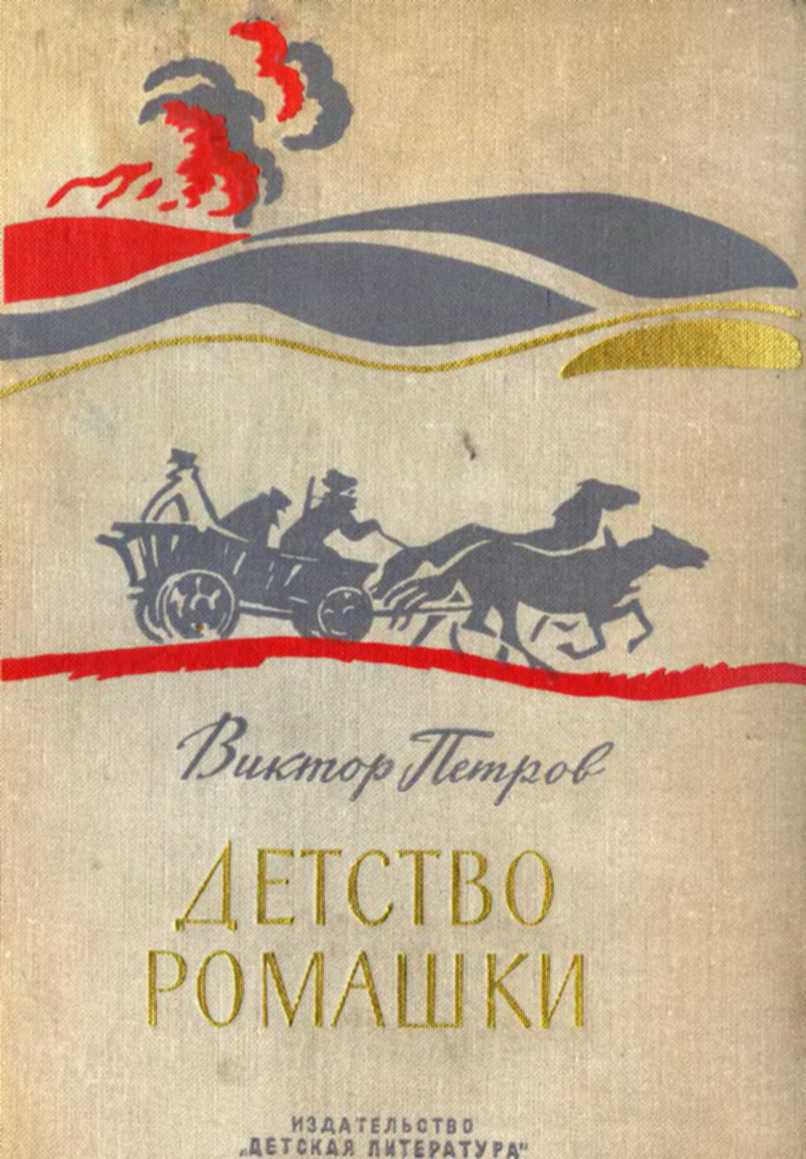Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 27
возвращаться в прошлое, открывать старые раны… Лучше оставить его в покое.
Я не позвонила ему ни в этот день, ни в следующие. Не могла решиться. Что я скажу? «Хочу написать о вас книгу»? Но что он знает обо мне, о том, чем я занимаюсь?
— Ты ему позвонила? — все спрашивал меня Лука в сообщениях.
— Еще нет.
— Позвони. Это луч света, который проникнет в твою жизнь, поверь мне.
И он был прав.
Однажды я решилась. Ответил моложавый голос, без тени раздражения, и мы сразу договорились встретиться в следующий понедельник на Пьяцца Маттеи у фонтана с черепахами, в гетто. «Вы знаете, где это?»
Черепашья площадь — одно из самых милых моему сердцу мест в городе, где я живу уже двадцать семь лет.
— Увидимся в понедельник в 10.
— Прекрасно. Спасибо.
Я пришла, как обычно, за час.
Круассан и капучино во внутреннем зале кафе, тетрадь, в которой я помечала вопросы для Эмануэле. Иногда я выходила посмотреть, не пришел ли он.
Эмануэле появился минута в минуту. Я сразу его узнала и подошла к нему.
Мы сели за столик, за которым я ждала. Я принесла с собой свои книги, даже книги-картинки — мне они казались лучшим доказательством того, что мои намерения серьезны, что я не нахваливаю себя просто так.
Он кивал и улыбался, листая книги и несколько смущаясь.
Я спросила, писал ли кто-нибудь уже о нем, он сказал нет. Он давал интервью, его приглашали в школы, но книг не было ни одной.
Нам принесли кофе. Еще немного неловкостей, которые никуда не девались. Потом я попросила его рассказать мне, что случилось 16 октября 1943 года, и смущение исчезло.
Его слова развернули перед моими глазами картину того утра: немцы на улице, его мать у окна, она велит детям никуда не уходить: «Я схожу к Термини, предупрежу отца, чтобы он не возвращался домой. Здесь слишком опасно. Если его увидят, то схватят».
Он рассказывал, и мне казалось, что я живу две жизни. Одна — в кафе, с ним и чашками кофе, другая — в 1943-м в гетто, где немцы выбивают двери, где Джинотту хватает солдат, ее сын кричит из окна и бежит к ней на этой самой площади. «Вон там, — сказал Эмануэле, указывая на Палаццо Костагути, — грузовик стоял там напротив, и моя мама была внутри. Она велела мне бежать, но использовала не итальянское слово scappa, а наше, римское, resciùd. Вы знаете это слово?»
— Мы можем перейти на ты?
— С удовольствием.
С того момента всякое стеснение исчезло, и спустя два часа мы все еще сидели и разговаривали. Потом мы попросили официанта нас сфотографировать. Это была первая из многочисленных фотографий, которые мы отныне делали каждую встречу.
Когда мы прощались, он крепко и радушно меня обнял. И влюбленность, что я почувствовала несколькими неделями ранее, превратилась в любовь: к истории мальчика из трамвая — мальчика, которому теперь был девяносто один год, к особенному человеку с сердцем, полным прекрасной невинности.
Я попрощалась, взяв с Эмануэле обещание, что мы скоро увидимся снова. Позвонила Марии Паоле, своему агенту, и сказала, что она должна мне помочь превратить историю, которую я напишу, в книгу. Я была так возбуждена, что говорила очень быстро, и половина слов не долетала до собеседницы.
— Напиши одну страницу, — сказала она, — всего одну, пока ты так полна энтузиазма, и отправь мне как можно скорее.
Я так и поступила, как только добралась до дома. Мария Паола взялась за дело.
И вот мы здесь.
Пока я писала, Эмануэле все повторял мне: «Не делай из моей истории трагедию, мне они не нравятся, я всегда старался увидеть хорошее в жизни».
Я постаралась выполнить его просьбу, хотя трагедии в его истории было предостаточно.
Мы встречались с Эмануэле много раз, я смотрела на улицу через окно, откуда его мать в ту субботу увидела немцев, откуда он сам выглянул 4 июня 1944 года, когда Челесте ди Порто («Нет, мы не родственники»), самая красивая девушка в гетто, закричала, полная радости, что союзники приехали, а люди из других окон принялись оскорблять ее. «Но она была искренна, знаешь? В ее голосе слышалось настоящее счастье. Если бы она оказалась подругой фашистов или немцев, как говорили, она бы не радовалась так приходу союзников». У того же самого окна они с сестрой ждали в сентябре 1945 года женщину, которой уже два года как не было в живых.
Что же касается Челесте, то я не скажу Эмануэле, что против нее свидетельствовала также надпись на стене одной камеры в «Реджина Чели»: «Я Антиколи Ладзаро, по прозвищу Буцефал, боксер. Если я больше не увижу свою семью, то виновата предательница Челесте. Отомстите за меня».
Ладзаро Антиколи схватили 23 марта 1944 года на Виа Аренула вместо Анджело ди Порто, брата Челесте. Ладзаро, в отличие от Анджело, не было в списке из трехсот пятидесяти человек, которых день спустя расстреляют в Ардеатинских пещерах.
Мы с Эмануэле продолжаем встречаться, гуляем по гетто. Идем по Кампо-деи-Фьори, и он мне говорит: «Здесь жил сапожник, он делал ботинки из кожи, а еще тряпочные туфли, которые я носил, потому что они были дешевле… Вот тут на углу, видишь? Здесь раньше продавали табак на вес, а не готовые сигареты…» Мы идем к Торре-Арджентина, и Эмануэле показывает мне театр, перед которым торговал рождественскими открытками: «Я ставил зонтик, раскладывал под ним открытки и ждал, когда люди выйдут из театра. За пять открыток я брал одну лиру. Иногда, в удачные дни, мне удавалось заработать даже десять лир, большие деньги. Представь, что билет на трамвай стоил тридцать чентезимо, а за одну лиру можно было съесть мороженое или сходить в кино».
Он говорит, а я слушаю.
Однажды, пока он рассказывал, а я зачарованно смотрела на него, Эмануэле спросил: «Ты со мной проживаешь Историю, правда?»
Он прав. С ним большая История всего человечества для меня превращается в историю одного мальчика и увлекает за собой.
Чтобы описать жизнь мальчика из трамвая, я изучила множество источников, смотрела документальные и художественные фильмы, читала романы, залезла в архивы, просматривала карты в поисках нужных деталей, но ничто не сравнится с его голосом, когда я звоню ему, теперь уже каждый день, и он говорит: «А я тебе рассказывал про то, как…»
«Нет, Эмануэле, расскажи».
Однажды я призналась, что мне очень нравится слушать его, что я бы слушала его вечно. Он ответил:
— Ну уж… Я ведь могу рассказывать и сто лет.
— Тогда я буду слушать тебя сто лет, Мануэ. Ведь твои истории великолепны.
— Но эта, наверное, самая прекрасная из всех?
— Да, Эмануэле, эта
Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 27