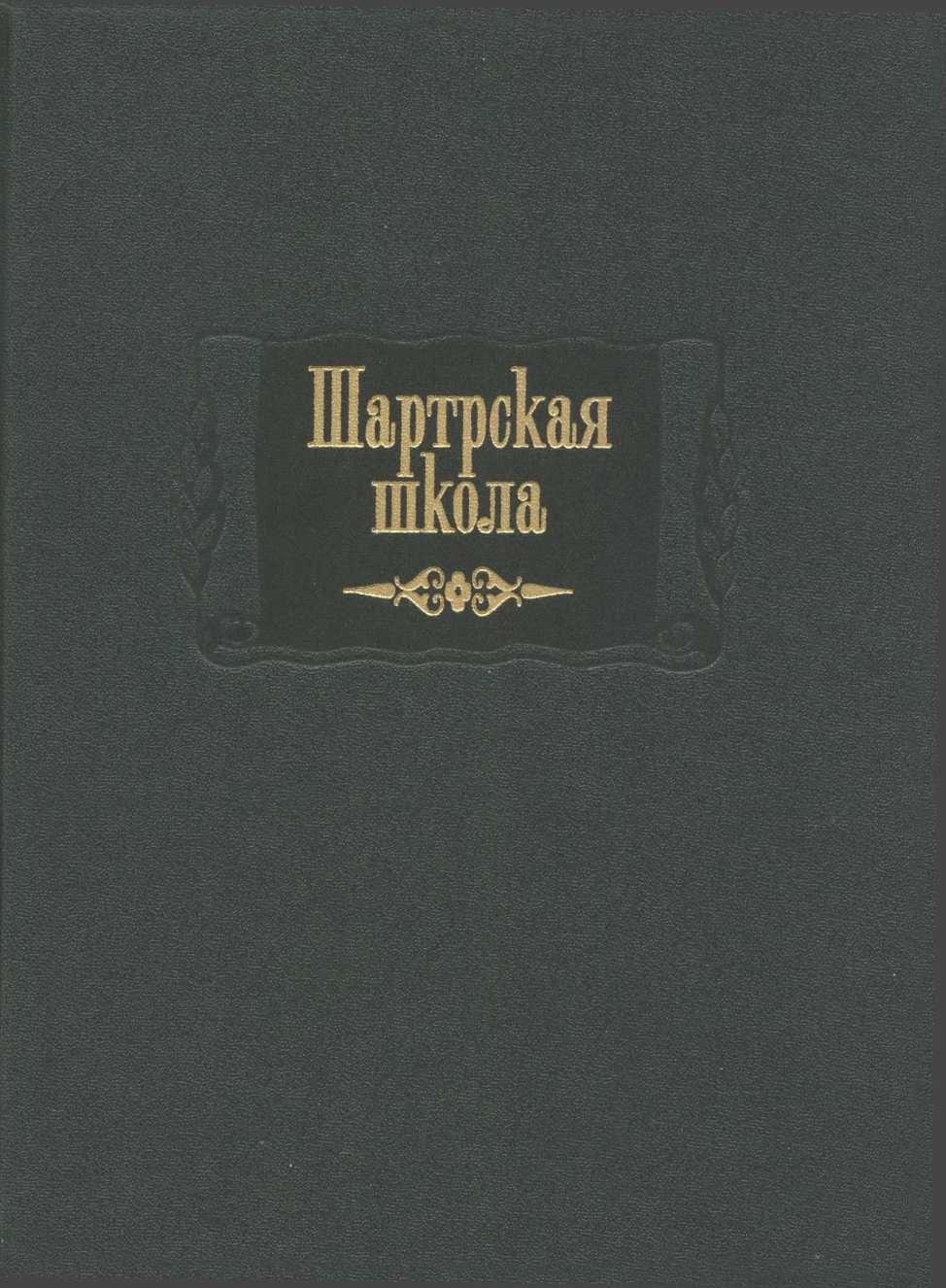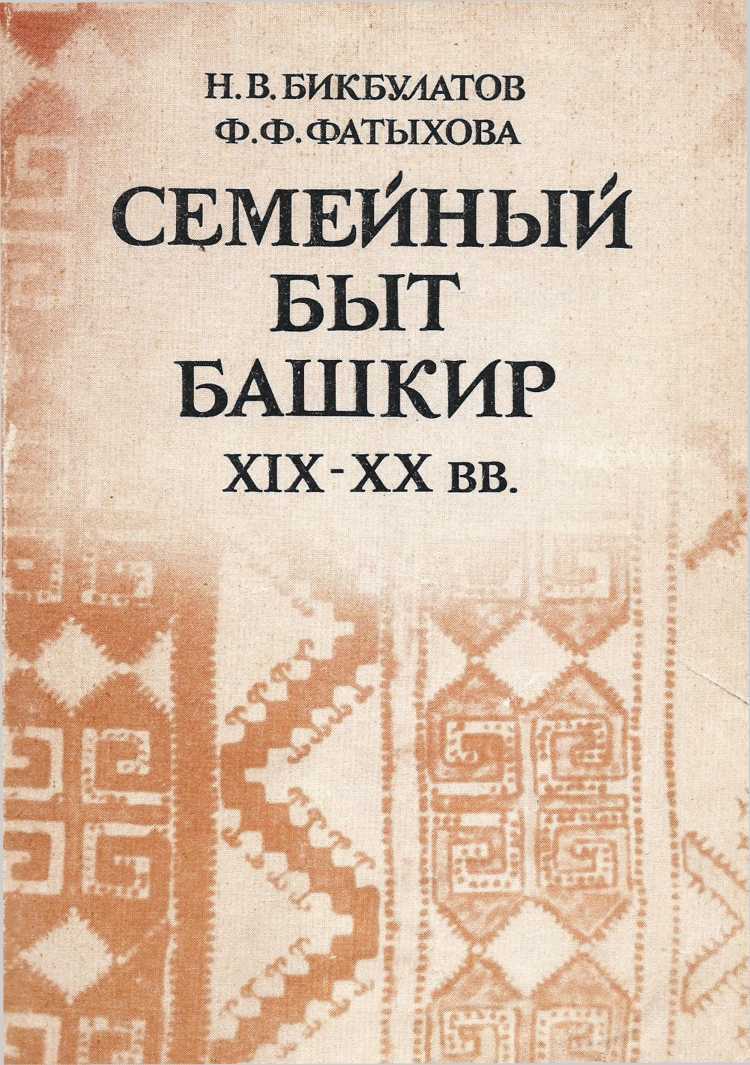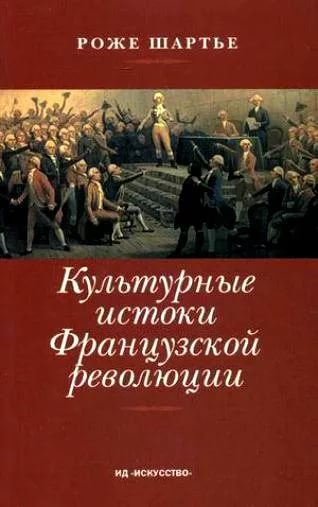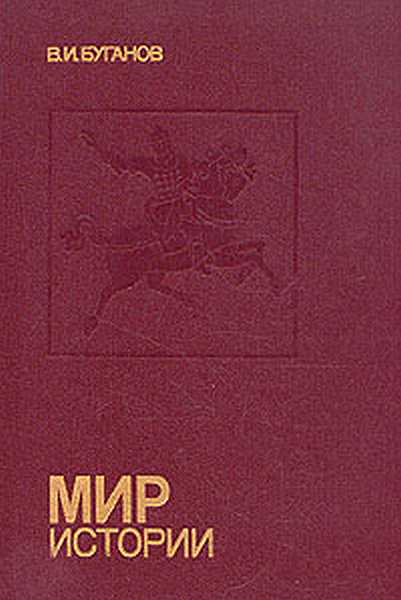юноше виден талант решительный, стремление приспособить поэзию к делу и к законному влиянию на текущие современные события»[260].
Этот отзыв Гоголь дал на стихотворение Аксакова, заканчивающееся словами горького сожаления о том, что исполнение гражданской мечты недоступно для его современников:
А сколько прежде поколений
Ждет вновь неправедность судьбы,
И бремя тяжкое стремлений,
И оскорбительность явлений,
И безутешныя борьбы![261] (Курсив мой. – Т. Б.)
Отметим «оскорбительность явлений» как важное понятие для понимания мотивации Аксакова как чиновника-правоведа. Чрезвычайно деятельный идеалист, как впоследствии охарактеризует его супруга, Аксаков всерьез воспринял воспитательные задачи отечественного «правоведения». По мысли Сперанского, в отличие от отвлеченной юриспруденции, русский аналог этого понятия – «правоведение» – подразумевал возвышение закона в практике судов, то есть последовательное правоприменение.
Аксаков стал самым ревностным исполнителем этой идеи. Письма родным молодого чиновника пестрели упоминаниями о систематическом изучении Свода законов и успехах его применения во время ревизии и в дальнейшей судебной деятельности. Протекции именно по судебной линии стал просить Аксаков у товарищей-правоведов, когда разочаровался в своей сенатской «бумажной» службе. Благодаря их помощи в 1847 году Аксаков получил назначение в Калужскую уголовную палату.
Но реалии судопроизводства, убогость и «животная жизнь» служителей закона как в провинции, так и в столицах постепенно лишали Аксакова надежды, рожденной в стенах Училища правоведения. В письмах наиболее близким однокашникам он откровенно говорил о том, что изменил взгляды на суть службы и должен переменить вектор своего служения. От следования букве закона он решил отойти, чтобы руководствоваться лишь голосом совести. Еще со времен написания своего дипломного сочинения в Училище правоведения Аксаков подчеркивал значение нравственного закона, нарушение которого «оскорбляло общественное сознание и чувство правосудия граждан»[262]. Поэтому суд в сознании юного правоведа был «объективной силой» правосудия, защитником «общественной безопасности», который мог судить за преступления, неизвестные закону.
Эти взгляды Аксакова опирались на поэтические представления о праве и справедливости любимых им еще с юности немецких поэтов-романтиков Гейне, Шиллера и Гете, чьи лирические герои смело вступали в бой с несправедливостью, даже если она была освящена авторитетом закона. Воздействие бунтарского потенциала немецкого романтизма пытались пресечь в России разного рода запретами. Пьесы Шиллера не пропускались театральной цензурой[263], а в Училище правоведения преподавателю немецкой словесности было запрещено упоминать о «Фаусте» Гете, о чем вспоминали И. С. Аксаков и К. П. Победоносцев в переписке[264]. Однако запретный плод, как известно, гораздо слаще: вдохновленный поэтической доктриной Шиллера «восстановления человека в его неотъемлемых правах» (Wiederherstellung des Menschen In seine unverlierbaren Rechte)[265], Аксаков хотел действовать.
В письме своему товарищу Д. А. Оболенскому он писал:
Я решительно убеждаюсь, что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, т. е. не брать взятки, 2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон. Что проку, что закон соблюдается, когда это соблюдение закона не уничтожает зла, не вознаграждает невинность[266].
Месяцем позже, отвергая предложение некогда желанной прокурорской должности, он разъяснял другу Бюлеру:
…мои политические мнения получили другое направление, которому я всегда, впрочем, сочувствовал. И я не хочу принадлежать правительству, т. е. тому, от чего терпит Россия[267].
Общую пользу Аксаков видел теперь только в общественной деятельности, направленной на изменение системы. В этом намерении его окрыляло поощрение Гоголя. Молодой Аксаков готов был «вооружаться» всеми своими талантами, чтобы, говоря словами Гоголя, «законно влиять на текущие современные события». Ревностная служба закону привела правоведа-Аксакова к необходимости пересмотреть роль образованного класса. Теперь он хотел не только утверждать законный порядок, но и «законно влиять» на настоящее. Так, освободившись от честолюбивых карьерных мечтаний, Аксаков направил свое внимание на более правильные, с его точки зрения, пути достижения позитивных изменений.
Аксаков надеялся, что в должности председателя Калужской уголовной палаты у него будет больше времени на литературную деятельность, а также что в скором времени он сможет выйти в отставку. Однако, будучи человеком ответственным, он самым активным образом включился в работу Уголовной палаты, хоть и не оставил идею покинуть службу. С большим удовольствием отмечал Аксаков в письмах к родным в 1847 году, как достойно он вел себя перед лицом надвигающейся ревизии столичного сенатора. В отличие от перетрусившего председателя Калужской уголовной палаты, ленивого картежника, Аксаков держался уверенно и не делал никаких распоряжений перед ревизией. В письмах родным он писал, что не боится ревизии, потому что «разрешение дел производится мною самым добросовестным образом и между тем довольно быстро. …часто приходится из пяти или шести томов (Свода законов. – Т. Б.) выбирать статьи для какого-нибудь незначительного решения»[268].
Даже презирая службу как таковую, называя ее «подлой», правовед Аксаков продолжал быть идеальным чиновником, в руках которого пятнадцатитомный Свод законов был средством утверждения законного порядка. Он с удовольствием отмечал, что новое Уголовное уложение, несмотря на тяжеловесность языка, позволяет судье выносить более справедливые решения. Оно требует от судей гораздо большей ответственности:
Наказания очень строги, но зато судья имеет право принимать в соображение даже нравственные побуждения преступника, как то: бедность, сильное оскорбление и множество других. Конечно, это подает повод к большим злоупотреблениям. Между тем, как я рад этому, ибо звание судьи возвышается, от него требуется глубокое понимание человека, он не простой исполнитель буквы, по духу этих законов ему дается довольно большое поприще для толкования обстоятельств, – вероятно, другой плут, уездный судья, начнет делать такие толкования и рассуждения, что невольно пожалеешь о данном ему произволе[269].
Осознавая собственное профессиональное превосходство и высокий уровень нравственных притязаний, столичный правовед с нескрываемым презрением относился к уездным судьям в Астрахани и судебным служителям в Калуге. Вполне вероятно, они заслужили это в том числе и своей неприемлемой для Аксакова безответственностью. В письмах родным он постоянно жаловался на то, как его коллеги по Калужской уголовной палате уклоняются от действий и решений. Так же как в Астрахани, калужские чиновники не только плохо знали законы, но даже не стремились их узнать. Они проявляли неуместные, по мнению Аксакова, неторопливость и мягкость[270] и довольствовались умением составлять отчетные документы о своей деятельности. В итоге местные суды, в том виде, как это было представлено в их отчетах, частично соответствовали требованиям закона. Для центральных властей вполне умело создавалось впечатление, будто чиновники на местах в целом знают и исполняют закон.
В своей пьесе Аксаков показывал, что за преступным уклонением от настоящих решений стоит