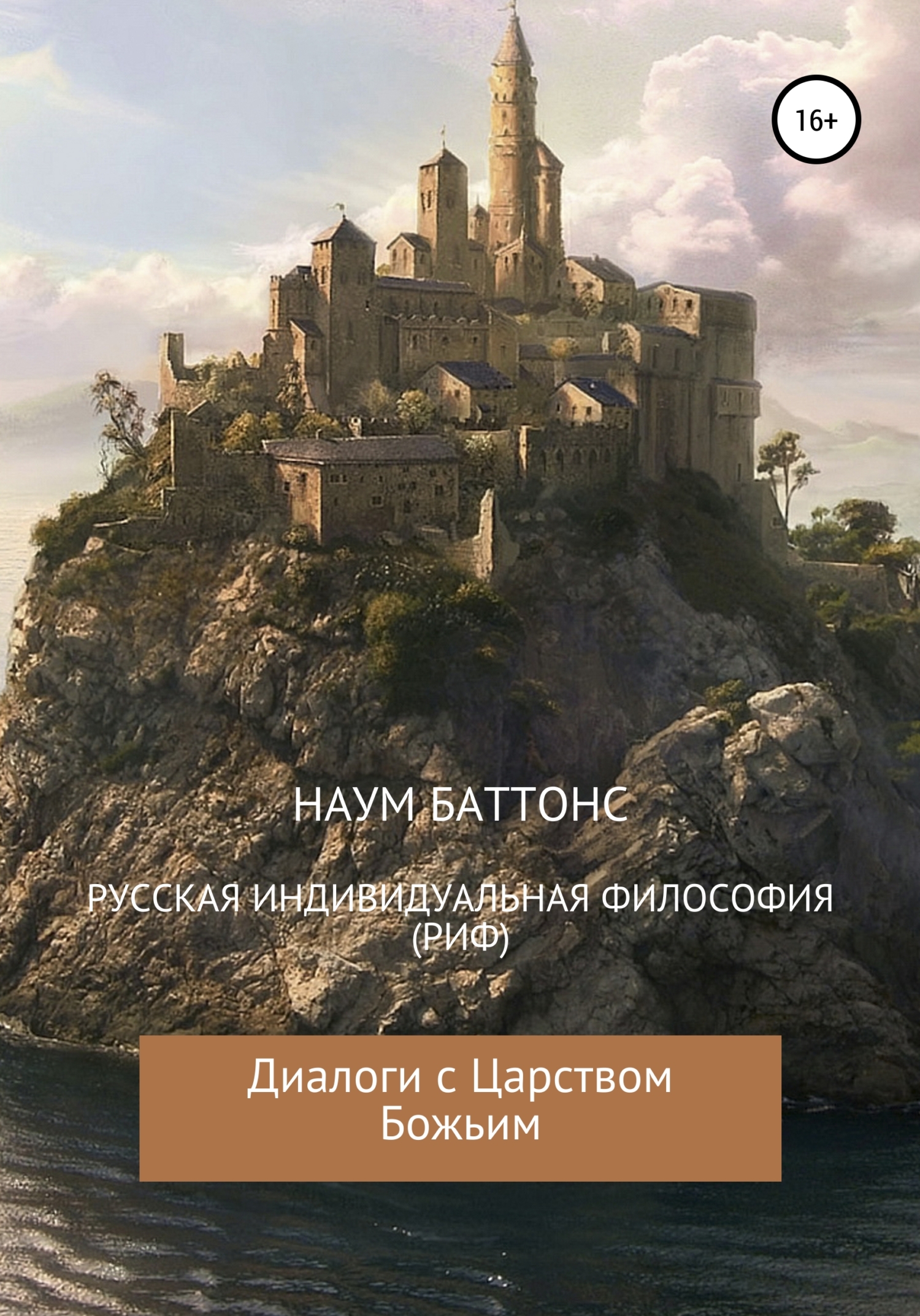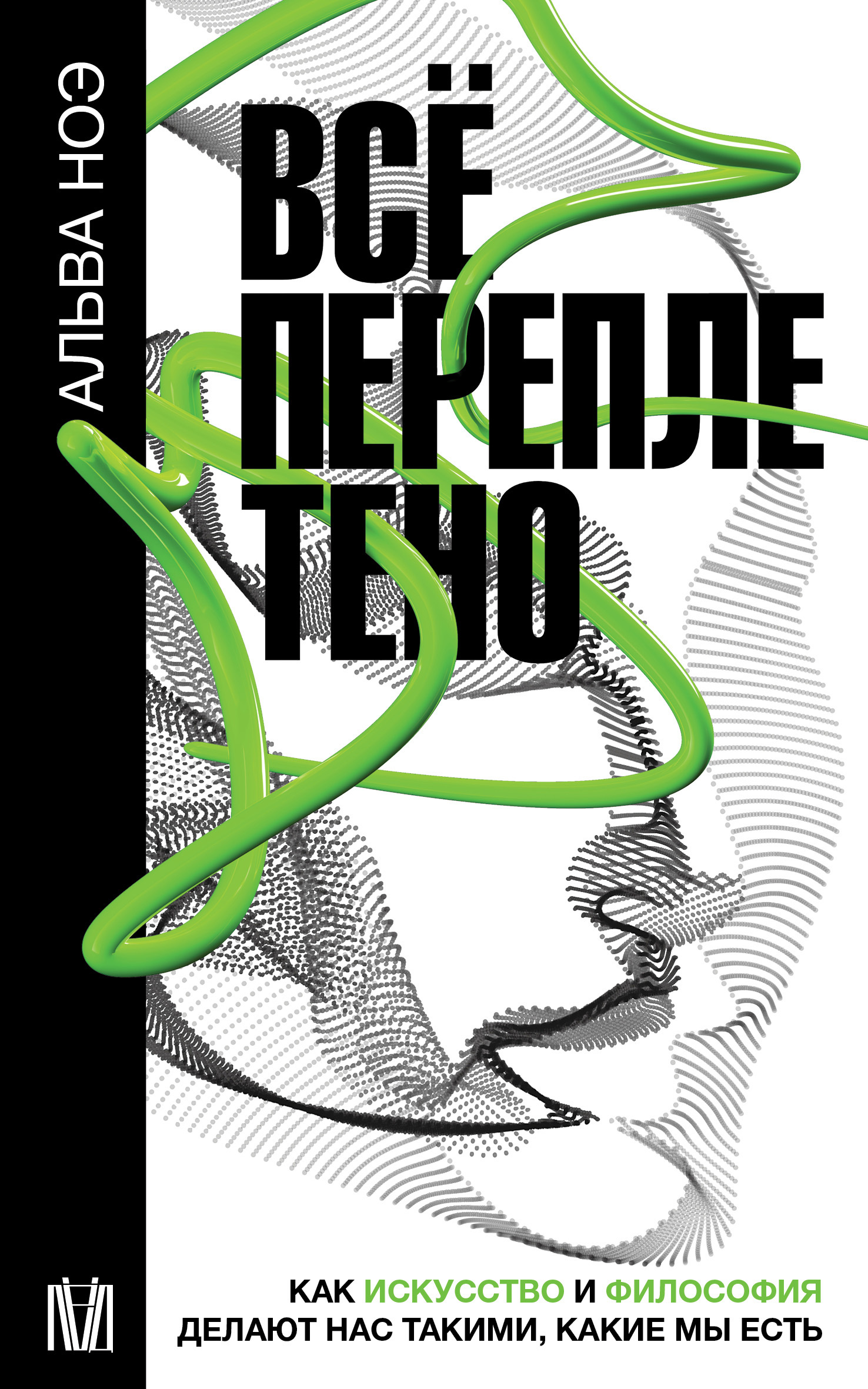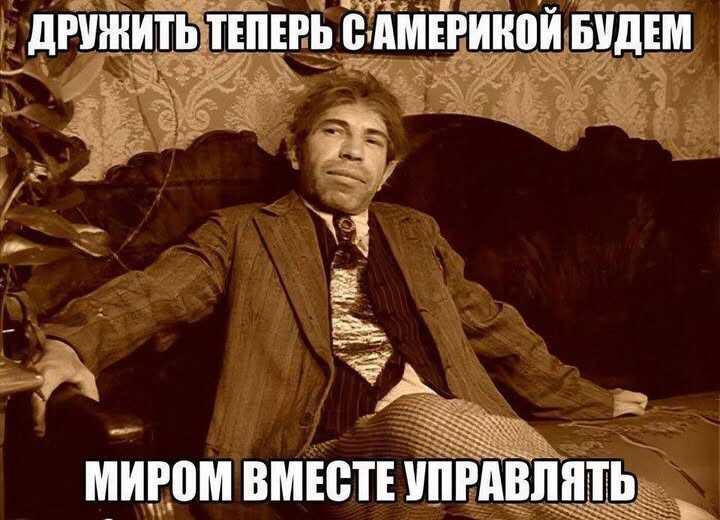бы персонаж, разыгрывающий роль художника, имитирующий его деятельность средствами избирательных метонимий. Соответственно: картина как бы картина, живопись как бы живопись, стиль как бы стиль, образ как бы образ… Также в области теоретической: теория как бы теория, обоснование как бы обоснование, категория как бы категория, концепт как бы концепт.
Область реализации Самоделкина – зона между пластическим образом и теоретической проработанностью смыслов – всецело принадлежит миру знаков: знаку живописи, знаку картины, знаку художественного образа, знаку интеллектуально-теоретической деятельности. Соответственно, декодирование таких знаков в контексте сообщества происходит по тем же правилам: означающее знака выступает в роли как бы визуального образа, означаемое – как бы теоретического содержания, «идеи». Естественным образом, акты созерцания, замещенные кодами сканирующего «считывания», завершаются столь же инструментальными интерпретациями, что и как бы произведение. В конечном счете, всякая представленность оказывается поглощенной знаковой репрезентативностью. Даже, если речь идет о «знаках без референта».
Домашний архив
Существенно: все упомянутые перемены – ориентации, установки, замещения – реализуются не в общем пространстве культурной жизни, но «интровертно», исключительно внутри самого сообщества, под тем же знаком изоляционизма.
Конечно, приобщение Самоделкина к статусу художника невозможно без коллективистской эстетики бриколлажа: происхождение, биография, деятельность нашего бриколера не отделимы от группы, от взаимозависимых сцеплений. В начале Восьмидесятых культивирование такой эстетики становится идеологией художественного сообщества исключительно в его коллективистски-домашних, «коммунальных» реализациях.
Наиболее известная из них – просуществовавшая полтора года «APTART-gallery» (1982–1984). В названии, придуманном Никитой Алексеевым и Константином Звездочетовым, всё то же «как бы»: как бы галерея, как бы выставочный зал в 18 м2 частной квартиры (APT от «apartment» – квартира), как бы выставочная деятельность, как бы публика. Исторически, открывшаяся в октябре 1982 года «APTART-gallery», наследница мощного протестного движения квартирных выставок середины Семидесятых. Однако по роду деятельности это прежде всего экспозиционно оформленный домашний клуб для домашних встреч и совместных акций поколения NewWave. Позже участники сложили о себе героические легенды, щедро сдобренные претензиями на первопроходство. Но в памяти остался лишь первый выставочный показ: комната, сверху до низу заполненная преимущественно текстовыми объектами и отсылками к советской агитационно-оформительской повседневности. Остальные мероприятия – достояние тех, с кем это было «первый раз».
В конце мая 1983 года состоялся коллективный выезд участников апт-арта в Калистово («АПТАРТ в натуре») – гибридное соединение памяти о знаменитой выставке 1974 года в Измайлово и поездок за город группы «Коллективные действия». Память сохранила общее веселье, насмешливую, порой саркастическую занимательность отдельных работ (вроде филипповского красного лозунга «Риму – Рим!» в кустах над водой, надписей Владимира Мироненко «Реализмус не пройдет» и «Modernismus не пройдет», веревочных конструкций Свена Гундлаха и Сергея Мироненко), но ничего от проблематики мирового искусства. Очевидно, для отечественного лэнд-арта, например, не было ни творческих предпосылок, ни интеллектуальных ресурсов. При всей озабоченности горизонтом Другого мира, референтной группой оставались домашние.
Еще одно «как бы» начала Восьмидесятых – замещение историко-критической работы по осмыслению идей и практик андеграундной культуры коллективным трудом самоархивации.
Параллельно журналам русского зарубежья Семидесятых («Третья волна», «A-Я») московское художественное сообщество приступает к ревизии собственных практик. При этом ревизия эстетическая (теоретическая, рефлексивная) сразу же трансформировалась в ревизию реальную. В конечном счете художественные инспекции, инвентаризации и описи свелись к коллективному производству архивной документации. Сначала (1981–1982 гг.) это были «Папки МАНИ» (Московский Архив Нового Искусства): собранные вместе конверты с фотографиями работ и текстами художников. Затем – усилиями Вадима Захарова и Георгия Кизевальтера – был сделан двухтомный альбом «По мастерским» (1982–1985), где наряду с фотографиями художников в мастерских были включены также тексты интервью. Еще один пласт документации – альбомы фотографий художников, созданные Кизевальтером: «Любишь меня, люби мой зонтик» (1984) и «Комнаты художников» (1985), посвященный бытовому, «этнологическому» контексту домашней художественной жизни. Почти в те же годы свою мемуарную инспекцию неофициального искусства провел Илья Кабаков в «Записках о неофициальной жизни в Москве»: «60-е годы» (1982) и «70-е годы» (1983). Наконец, обширный документальный архив представляют собой многотомные «Поездки за город» и шесть «Сборников МАНИ», составленные Андреем Монастырским (с 1986 года по 1991 год).
Действие вируса множащегося документирования, разумеется, не исчерпывается приведенными примерами и первой половиной Восьмидесятых. Инспекции (группа «Инспекция Медицинской герменевтики»), отчеты, документы, фотографии, архивы – всё это продолжалось и позже, за чертой Восьмидесятых. В таком контексте архив был больше чем свод документов: это был еще и как бы музей. Поздние выставки эту музеефицирующую тенденцию своими экспозициями не только продемонстрировали, но и укрепили.
Крушение геронтократии
Сомнения в вечности советской ночи начинались исподволь: к кремлевским геронтократам зачастил Танатос – божество смерти, сын Ночи и брат Сна. Первым, 25 января 1982-го, с ним ушел «серый кардинал» Суслов, контролировавший отделы ЦК по агитации и пропаганде, Политуправление советской армии, Министерство образования, Министерство культуры СССР, Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Государственный комитет по кинематографии, Гостелерадио, Главлит, ТАСС, связи КПСС с другими коммунистическими и рабочими партиями, внешнюю политику СССР и творческие союзы писателей, журналистов, театральных деятелей, художников, архитекторов… Старожилы помнят его девиз: «На идеологии не экономят!». Похоронили идеолога партийной ортодоксии у кремлевской стены рядом с могилой Сталина.
Затем (10 ноября того же года) отошел «верный ленинец», орденоносный «двубровый орел» – Брежнев. Заступивший его место чекист Андропов, верный соперник Суслова, на идеологии также не экономил: «юрьев день» оказался куда жёстче прежнего времени убитых надежд. Почти двухлетнее андроповское правление осталось в памяти сбитым южнокорейским пассажирским «Боингом-747» и облавами в магазинах, кинотеатрах, банях, парикмахерских, пригородных электричках и других местах скопления людей с целью выявления прогульщиков работы и учебы. В 1983 году был арестован и осужден на два года лагерей художник-карикатурист Вячеслав Сысоев.
Еще при жизни Андропова, в июне 1983 года, брежневский выдвиженец Константин Черненко – для Брежнева просто «Костя» – сделал программный доклад: «Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии», положивший начало борьбы с «идейным и эстетическим ущербом», наносимым самодеятельными эстрадными группами с репертуаром «сомнительного свойства». Главной мишенью крупномасштабной войны на фронтах культуры оказались исполнители русского рока. Выступление на самодеятельных концертах было приравнено к незаконной предпринимательской деятельности, нарушающей монополию компании Росконцерт, и грозило тюремным заключением. В художественном андеграунде жертвами андроповско-черненковской борьбы стала группа «Мухомор». За магнитофонный альбом «Золотой диск» троих членов группы – Свена Гундлаха, Константина Звездочетова и Владимира Мироненко – отправили на перевоспитание в армию; в том же 1984 году группа распалась.
13 февраля 1984 года Константин Черненко единогласно был выбран Генеральным секретарем. В памяти он остался телевизионной картинкой бессильного задыхающегося старца, испуганного невидимым зрителю краем открытой могилы… Со страниц газет призывал «выйти на новые рубежи», «превратить школьный класс