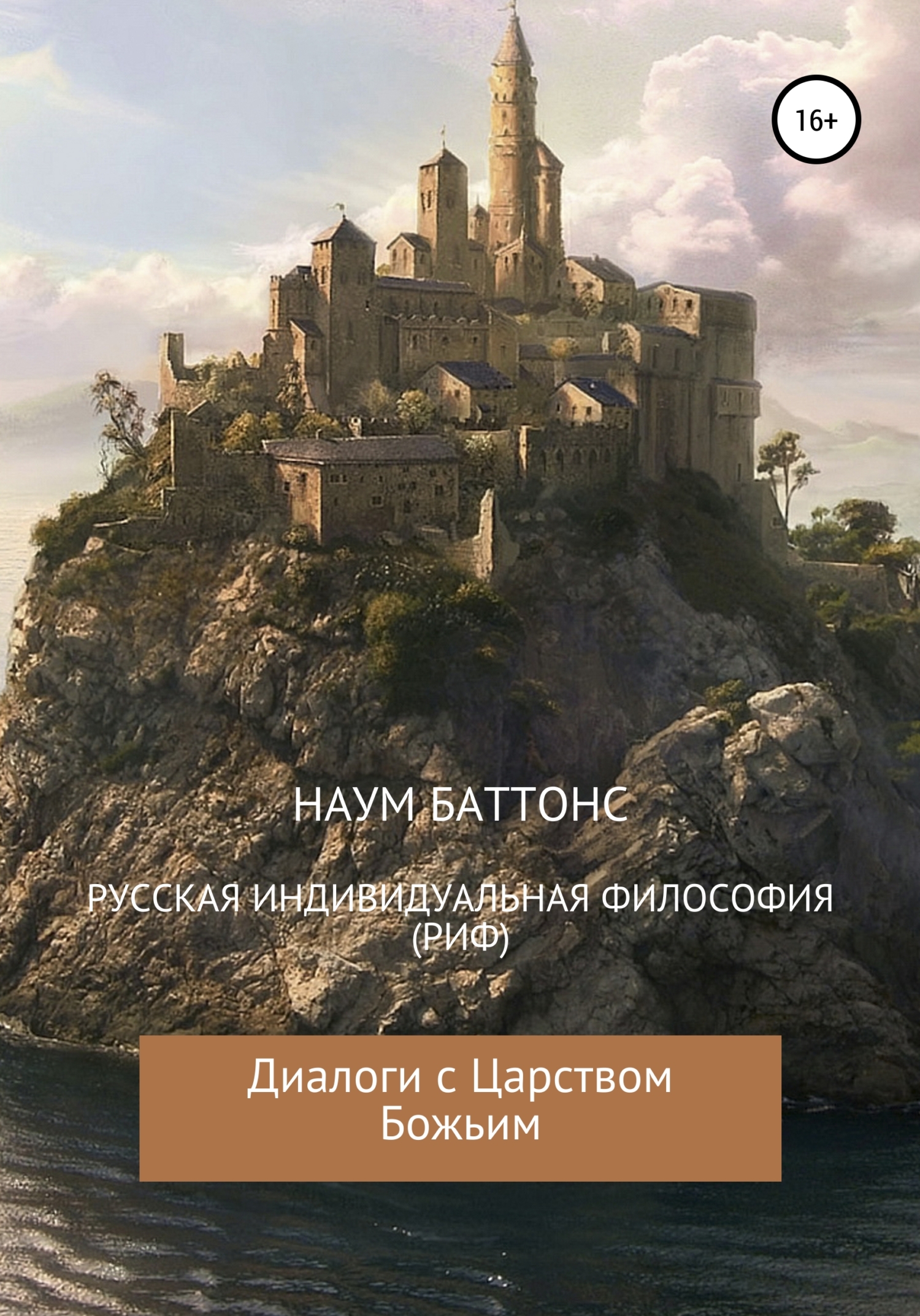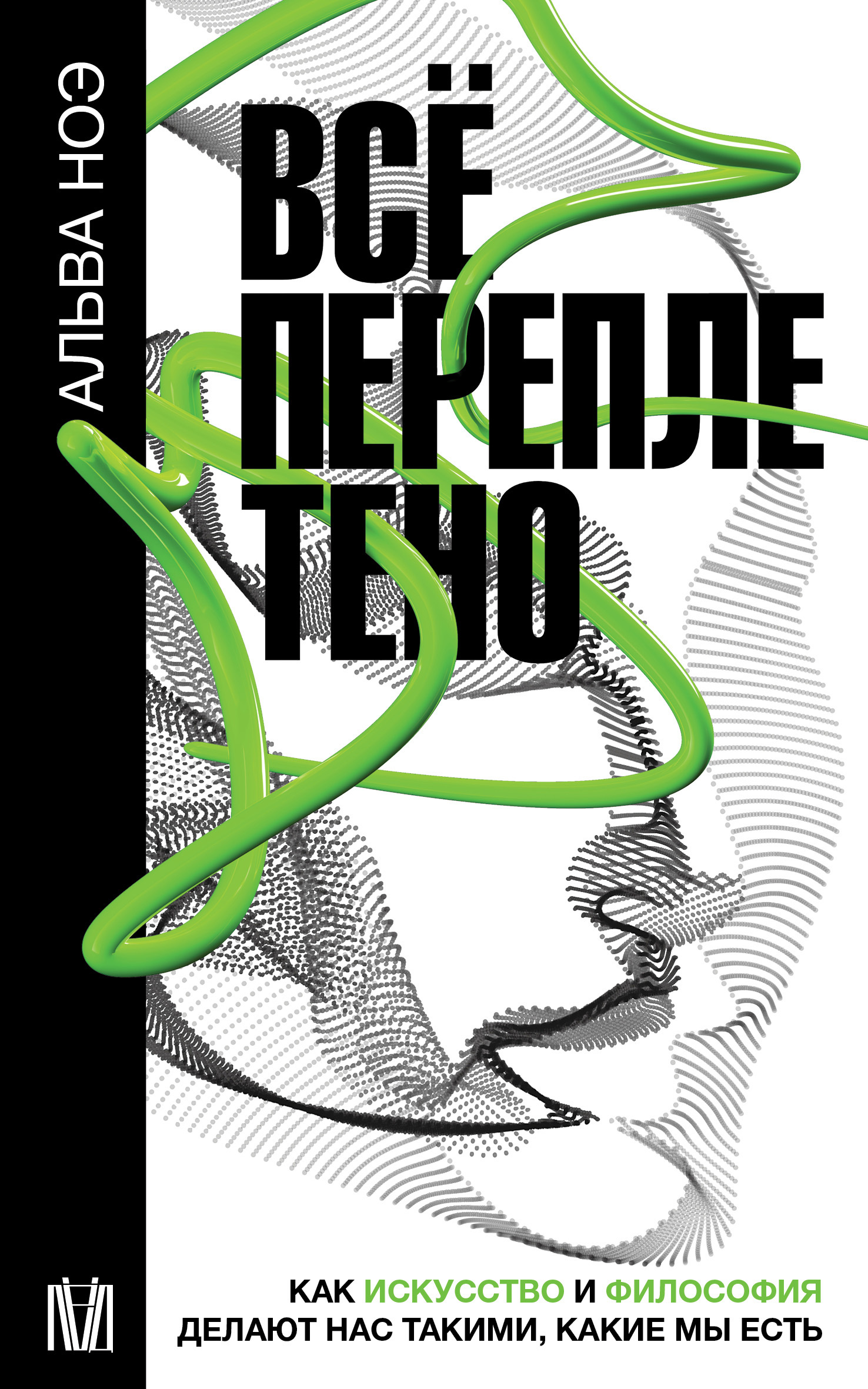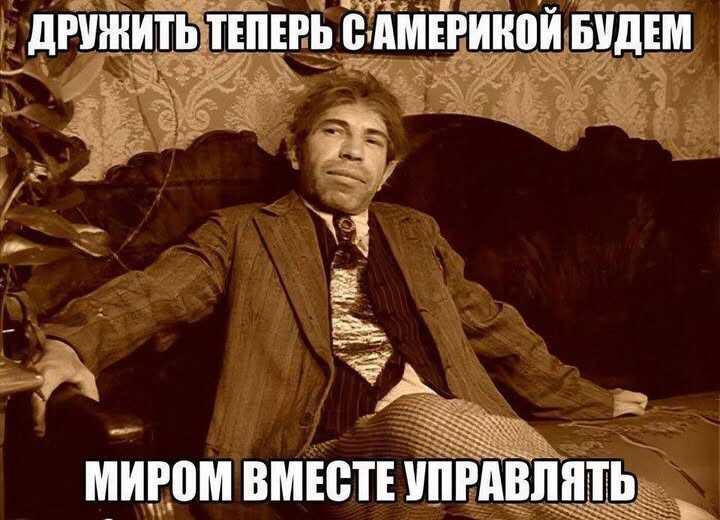в рабочий!», докладывал о «дальнейшем развитии и повышении эффективности бригадной формы организации и стимулирования в промышленности», о «подъеме благосостояния трудящихся». Потом еще о чем-то. Мучительную агонию геронтократии прервал Танатос: спустя год с небольшим после партийной интронизации семидесятитрехлетний Генсек скончался от остановки сердца и стал последним похороненным у кремлевской стены.
Перелом
Прямой сигнал к мобилизации «творческой интеллигенции» (в тот момент речь шла исключительно об интеллигенции «статусной») – мобилизации в поддержку перестройки – был дан Генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым 27 октября 1986 года. Возражая Лигачеву и Громыко, обрушившимся на идеологические ошибки писателей, Генсек заявил: «Нам надо делать так, чтобы большинству вопросов литературного творчества, оценку произведений давали сами художники, их творческие союзы, а не Комитет государственной безопасности или Центральный комитет». (В Политбюро КПСС. М., 2006. С. 99). В декабре того же года руководство СССР приняло решение отказаться от уголовного преследования инакомыслия.
При потворстве кремлевских реформаторов с 1987 года в ход идет тактика прецедентного расширения пространства разрешенной свободы: сначала под лозунгом «перестройки» и «гласности» вместе с критикой брежневского «застоя», затем – «перестройки» вместе с критикой сталинизма, наконец – под знаком перестройки советской системы в целом. Осенью 1989 года «Новый мир» печатает «Архипелаг ГУЛаг».
Память не сохранила никаких «открытий» из публикаторского бума (сам был публикатором прежде запретных текстов), зато риторические матрицы пропагандистской демагогии тех лет легко восстанавливаются: «командно-административные методы», «расширение демократии», «приоритет человеческих ценностей», «Общеевропейский дом», «новое мышление»… Партаппарат и общество сообща трудились над новым жаргоном.
От андеграундной культуры, собственную творческую свободу уже отстоявшую, власть ждала лояльности, не конфронтирующей с «перестройкой». На сцене общественно значимых сил конца Восьмидесятых, где появляются прежде репрессированные диссиденты, с их приоритетом правозащитной тематики, либеральные коммунисты, ставшие лидерами «демократов» и «неформалы», объединявшиеся прежде всего по направлениям деятельности, – художники неофициального искусства, безусловно, должны быть отнесены к последним. Та же, что у «неформалов», склонность к временным объединениям, к самоуправлению, к созданию собственной микросреды, к преобладанию горизонтальных связей. Та же импульсивность, спонтанность и – обескураживающее безразличие к выстраиванию социально значимых системных образований.
Знаки перемен
Все заботы, надежды, вся активность художников сосредоточилась на выставках. И это была не только активность художников андеграунда, традиционно мифологизировавших выставочную деятельность. Выставок хотели все: и молодые, и те кто ждал своей очереди десятилетиями, и те, кто числился в областных и республиканских творческих союзах, и те, кто ни в каких списках не значился.
В МОСХе повторяются «оттепельные» стратегии: конец 1986 года был отмечен XVII молодежной выставкой, демонстрировавшей в официальных залах на Кузнецком мосту «разнообразие творческих поисков». Впервые после Манежа 1962 года либерально настроенными искусствоведами и социологами была осуществлена попытка компромиссного соединения искусства «канонического» и «неканонического»: «реформаторского» (внутри канона) и «другого», от официозных рамок независимого. Устроители использовали широкий набор обоснований (прежде всего социологических), чтобы не исключать художников по эстетическим критериям. Проблематика самозаконности современного искусства была замаскирована, подменена проблемами «современной молодежной культуры», что и подчеркивалось театрализованным, фарсово-балаганном оформлением экспозиции. Выставка тут же стала медийным событием: представленные в одном месте гибридный модернизм «левого» МОСХа, полуабстрактная декоративная живопись, лирические и пафосные «самовыражения», гротеск и шутовство, наконец, просто возрастная витальность обернулись поводом для дискуссий о «судьбах соцреализма», от которых выставка себя не дистанцировала. Официозный в ту пору А. Якимович писал в журнале «Искусство»: «Благодаря Союзу художников и Молодежному объединению при нем молодые имеют такие возможности работать, каких нигде в мире не имеет начинающий художник… Ничего особенно хорошего не выставили, да и негде взять. Но оказалось, что само приобщение к новому мышлению, сама перестройка подхода к выставке действует как живая вода. И сама выставка оказалась живее, контактнее, праздничнее, чем любой из экспонатов» (Искусство, 1987, № 4, с. 20).
Однако самое интересное происходило за чертой официальной художественной системы – на путях легализации андеграундных художественных практик и малоизвестных публике типов художественной активности. С одной стороны, это было возвращением к модели триумфалистских выставок Семидесятых в павильоне «Пчеловодство» и в Доме культуры на ВДНХ, а позже – на Малой Грузинской: сборные, эклектические экспозиции «разных тенденций», вперемешку представлявших творчество тех или иных художников московского подполья. С другой – репрезентации групповых, коллективных идентичностей за пределами стиля: здесь участники выставок обычно объединялись складывавшимися на протяжении многих лет «общими взглядами», дружбой, судьбой, теоретическими спекуляциями.
Первой модели следовал Выставочный зал Красногвардейского района (в просторечии «на Каширке»), прославившийся выставкой «Художник и современность» (февраль 1987), которую провело эфемерное Первое творческое объединение московских художников. Наряду с живописцами различных направлений здесь участвовали также представители московского концептуализма и соц-арта. Художники-устроители выставки решительно отказались от деления искусства на «разрешенное и запрещенное». Более того, через газету «Московский художник» они призвали к созданию творческо-выставочных межсекционных объединений, которые могли бы самостоятельно проводить «проблемные выставки», привлекая к их организации искусствоведов. Из других выставок «на Каширке» памятными оказались «Геометрия в искусстве», посвященная юбилею Малевича (1988) и, конечно же, демонстрация первой музейной коллекции, собранной Андреем Ерофеевым при музее Царицыно: «В сторону объекта» (1990).
Вторую модель реализовал «Клуб авангардистов» («КЛАВА») (1987-89 выставочный зал Пролетарского района) «на Автозаводской». Здесь выставлялись концептуалисты разных поколений: объекты, тексты, инсталляции. Господствовали дух коллективизма и сгущенной контекстуальности. Из выставок запомнилась первая, растянутая на двухнедельные этапы. Прочие – как их продолжение. Особняком – «Передача энергии» И. Кабакова: мусорные почеркушки соединенные друге другом веревочками-«проводниками энергии». Из самых молодых – воспитанники Звездочетова «Чемпионы мира», ориентированные на лидерство, рекорды, на идеологию «Великой Победы», однако в искусстве иных следов, кроме притязаний, не оставившие. Особое место заняла выставка «Исследования документации» (ноябрь 1989): музеефицированная инсталляция (черный бархат, кварцевые лампы) фотографий пленэрных акций «Коллективных действий» – сюжет, впоследствии не раз варьировавшийся в других экспозиционных решениях.
Третью модель, изначально ориентированную на историко-культурную, музеизирующую перспективу представляло Творческое объединение «Эрмитаж» (зима 1986–1988) в Беляево, собравшее вокруг себя около 200 художников разных ориентаций, а также фотографов, архитекторов, искусствоведов социологов. Одна из самых значимых выставок того времени – двухчастная «Ретроспекция. 1957–1987» (1987), где впервые были показаны прежде исключенные из советской культуры художники-эмигранты. Там же, в «Эрмитаже», прошли и большие тематические выставки: «Жилище» (1987) с действом Германа Виноградова, «Визуальная художественная культура» (1987); из персональных запомнились организованная Кабаковым ретроспектива Юло Соостера, ретроспективы Юрия Злотникова, Владимира Слепяна, Бориса Турецкого, выставки Ивана Чуйкова («7 фрагментов», 1987), Эдика Штейнберга в ноябре того же 1987 года.
Выставки заметно изменили конфигурацию представлений о состоянии искусства московского андеграунда. Сами же изменения шли с чудовищным сопротивлением идеологического аппарата на всех уровнях. Каждая выставка встречала чиновничье противодействие идеологических экспертов из районных отделов