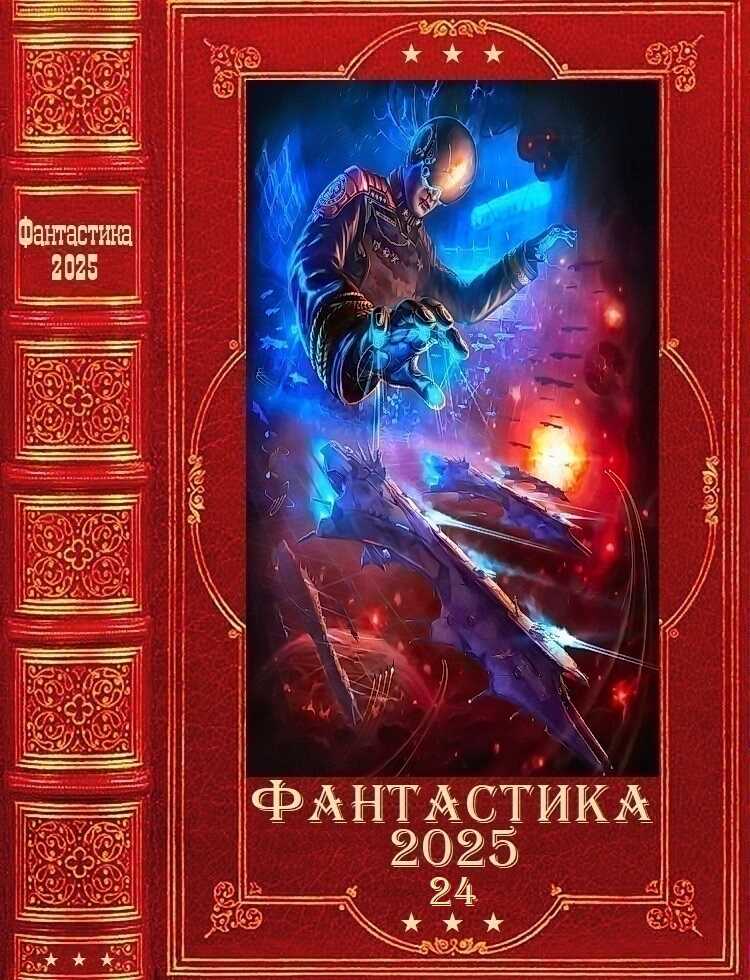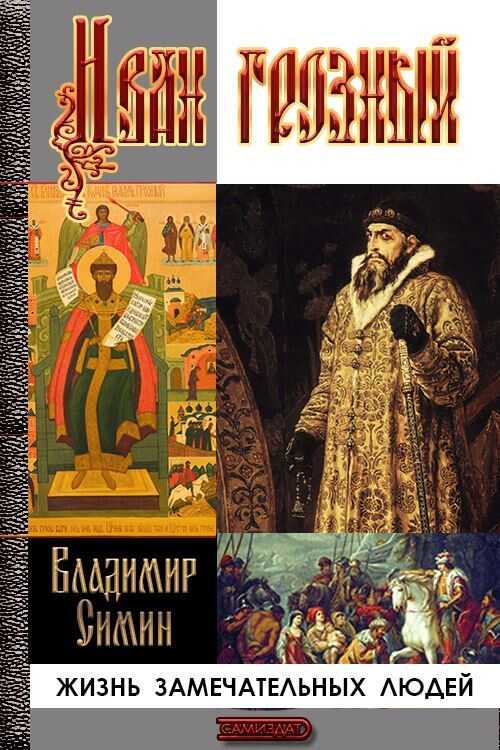связи. Срочно прибыл командир лодки В.А. Морозов.
Ревун, сыграна артиллерийская тревога. Командир принял решение уничтожить судно артиллерией.
– ПЛ, к бою приготовиться!
– Артрасчету на мостик!
Застучали ботинки по трапу. Прислуга орудия заняла места на орудийной площадке.
Звенит машинный телеграф – это дизелистам поступает команда: самый полный вперед! Все быстрее вращается гребной вал. Право руля, «Щука» резко набрала ход до 11 узлов. Через 12 минут дистанция сократилась до 10 кабельтовых, японское судно прекратило движение. Уже через 15 минут после обнаружения противника при дистанции 7 кабельтовых звучит команда Морозова:
– Огонь из 45-мм орудия! Товсь!
Еще залп. Фонтаны от снарядов ложатся все ближе к мотоботу. Людей на палубе японского судна не видно, только ящики. Произвели 25 залпов, мотобот получил пять прямых попаданий и затонул.
– Приготовиться к погружению! – раздается команда командира.
Задраины люки. Заполняются цистерны. Лодка сразу ушла на глубину 20 метров. Для дизелистов это значит стоп-машина, движение за счет аккумуляторов. Лодка двигается зиг-загами. Гидроакустики прослушивали горизонт, тишина. Предположительно мотобот использовался как средство наведения ударных сил на обнаруженные позиции подводных лодок.
В другой день в ходе патрулирования на глубине гидроакустический пост Щ-126 доложил: слышу шум винтов. Японцы! Командир принял решение об изменении курса, и через некоторое время шум прекратился.
В целом за 20 дней боевых действий подводных сил ТОФ было потоплено два транспорта, один поврежден. 23 августа приказом Главкома успехам моряков-тихоокеанцев салютовала Москва.
28 августа все 22 лодки ТОФ вернулись в базы. Из них лишь шесть имели боевое соприкосновение с противником.
Война закончилась, и в душе Бориса стала расти вера в скорое возвращение на гражданку. Как-никак, восемь лет под водой. Но в сентябре 1945 года его задержали на один год согласно директиве военного совета ТОФ. Эх-ма, тру-ля-ля. Терпи казак – атаманом будешь! И все-таки в марте следующего года Хвастунов убыл в Ленинград.
Здравствуй, дом родной! Моряк пошел на завод «Русский дизель», где строили те самые дизели, что он эксплуатировал. Женился, пошли дети. Жизнь сына Анны (ур. Кустовой) и Александра Хвастуновых стала достойным продолжением традиций семьи Лобановских-Морозовых-Кустовых.
Художник-фантазер
В жены Роберт Авотин взял Наталью Новицкую, внучку Якова Лобановского. От предков-латышей с их крестьянским характером Роберт унаследовал терпение, упорство, работоспособность, умение полагаться на себя. Как-никак, его дед был краснодеревщиком; отец Жан и матросом служил, и на бронепоезде в Гражданскую воевал, и в качестве электрика работал в Кремле. И даже Сталина видел. При этом избежал репрессий. Кстати, «авотс» по-латышски – родник, так что неудивительно, что наш герой сумел стать высокоталантливым мастером.
После шести классов на второй год Великой Отечественной войны Роб пошел на московский завод МЭМРЗ учеником. Вскоре он уже самостоятельно как слесарь-сборщик слесарил, сверлил, ремонтировал «Катюши». Параллельно закончил семь классов. Отгремела война – и Авотина, уже познавшего цену ручного труда, потянуло в ремесло (сказались корни): он поступает в Московское художественно-промышленное училище им. М.И. Калинина, которое готовило художников в области декоративно-прикладного искусства (роспись по дереву, лаку и металлу). По окончании в 1950 году Авотин был направлен начальником ОТК промысловой кооперации в Горьковскую область, в артель «Красная Узола». Знаменитую Хохлому. Разрабатывал эскизы и внедрял образцы художественной росписи деревянной посуды и мебели; руководил живописным цехом.
Способный юноша решил учиться дальше: в 1951 году он поступает в Московский институт прикладного и декоративного искусства, где готовили на художников по обработке стекла, керамики, металла, а также скульпторов. Некоторое время директором института, кстати, был Александр Дайнека. Юный художник в том же году становится членом Московского товарищества художников. В 1952 году институт расформировали, Авотин перевелся в Ленинградское художественно-промышленное училище им. Мухиной, на специальность «монументально-декоративная живопись».
И здесь он встретил свою Музу. Наталья Новицкая, дочь архитектора, училась в его же группе на монументалке. Дипломная работа Роберта соединила его любовь к народному искусству и высокое владение монументальной техникой. Проект росписи нижнего вестибюля Училища им. Мухиной на тему «Декоративное искусство» воплотил глубокое знакомство автора с ДПИ, явил Роберта как талантливого живописца, отличного рисовальщика, способного решать сложные композиционные задачи. Реализованное для диплома красочное панно «Ковроткачество» демонстрировалось на Московском фестивале молодежи и студентов (1957) и на Всесоюзной художественной выставке (1958).
После окончания «Мухи» чета художников возвратилась в Москву: он получил распределение как иллюстратор в журналы «Техника – молодежи» и «Юный техник». Роберт сменил профиль: он стал осваивать графику. С нуля. Постигал все техники в этой нише – перо, карандаш, акварель.
– Не все получалось, – рассказывает его дочь Наталья Авотина. – Сидел ночами, в той, большой комнате. Мы с братом маленькие норовили к нему прокрасться, подглядеть, ведь интересно, но мать стояла стеной на пороге: не пущу. Папа и мама ночами сидели, рисовали, мудрили. По-настоящему встречались мы с отцом лишь в воскресенье за завтраком.
Первая обложка работы Авотина для журнала «Техника – молодежи», одного из самых популярных в то время, появилась в 1957 году. В итоге авторский стиль Авотина определил лицо журнала на несколько десятилетий. Читатель, подойдя к киоску Союзпечати, моментально узнавал «Технику – молодёжи» по обложке, на которой виднеется новая работа Р. Авотина.
1960-е годы – время эпохального освоения космоса, энтузиазма, комсомольских строек, перекрытия рек, открытий в науке, новых технических решений. Вся страна знала имена космонавтов, исследователей, спортсменов. Художник горел энтузиазмом вместе со всеми. Он познавал горизонты, которые открывала перед человечеством фантастика, вгрызался в сложные технические проекты и открытия, упивался романтикой строек. Скрупулезно вникал в конструкции, в существующие и проектируемые корабли, межпланетные станции, постигал космизм, строение звезд и планет и их поверхность. Стиль изобразительного искусства той поры нередко называют социалистическим футуризмом, и Роберт Авотин стал одним из его лидеров. Художнику одинаково хорошо удавалось передать и безмолвное величие космоса, и таинственный подводный мир, и даже манеру первых иллюстраторов Жюля Верна…
Не только молодежь страстно увлекалась фантастикой. Издательство «Молодая гвардия», под крышей которого выпускалась «Техника – молодежи», печатало много научно-фантастических книг, в том числе периодические сборники «Фантастика» и «Тайны веков», серию «Библиотека советской фантастики». Конечно, Авотин увлеченно постигал тексты и предлагал свой изобразительный ряд к романам и рассказам. Документальная точность и филигранная отточенность работ Р. Авотина очень нравились любителям научной фантастики. Всего им проиллюстрировано более двадцати книг.
Характерны слова, оставленные ВКонтакте почитательницей художника Вероникой Сидоренко
«Как большой любитель фантастики, не могу не отдать должное этому прекрасному иллюстратору. Где-то в пятом классе я плотно «подсела» на чтении приключенческих и фантастических сборников и антологий 60-х – только их и можно было добыть в школьной