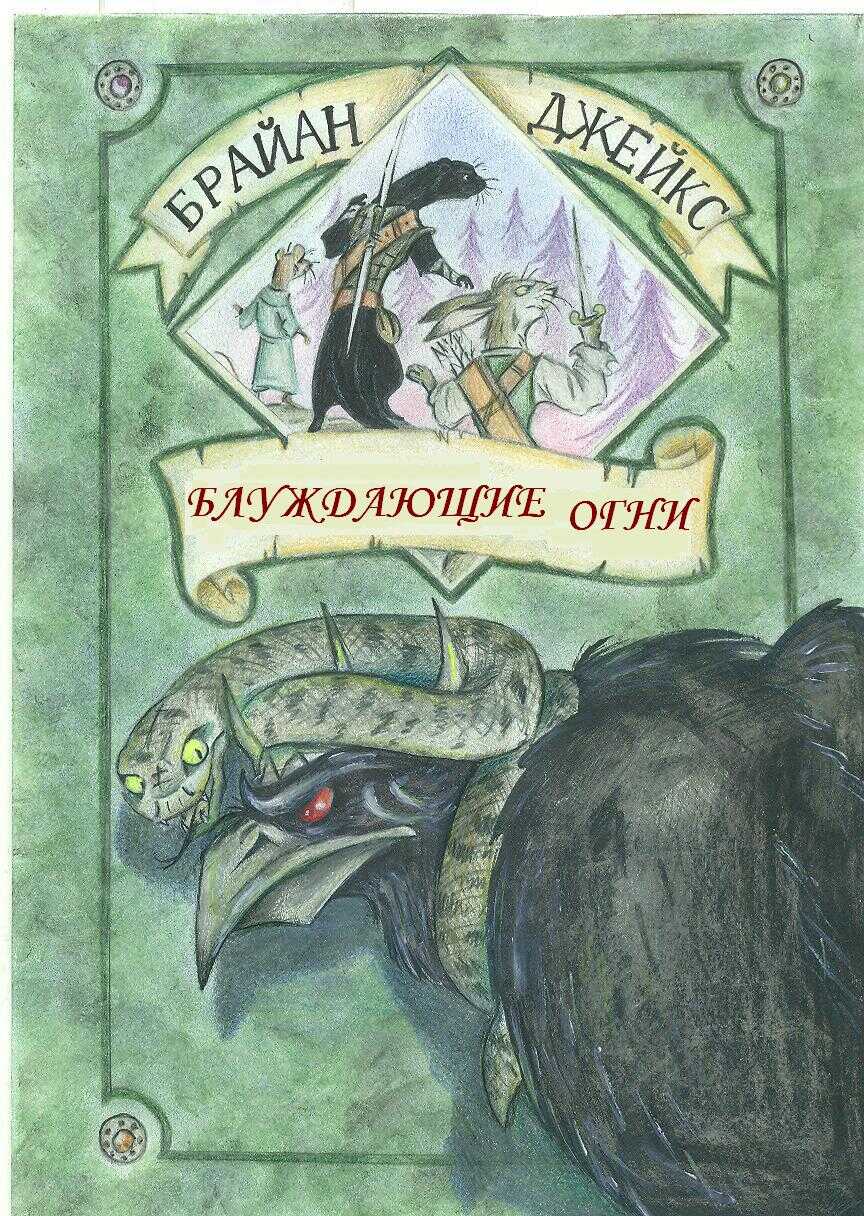предложил её называть, самоактуализации, – тот самый мифический «путь героя», – мы вынуждены прибегать к образам и метафорам. Речь идёт о внутренней трансформации, а для этого в нашем «подручном» языке просто нет слов.
Мы родились и живём, а потом умираем.
Но внутри этого цикла мы можем пройти другой: умереть в своём представлении о себе, в наличном сущем, чтобы воскреснуть в своей подлинности – в просвете своего бытия.
Вот почему итогом внутренней трансформации, по Карлу Юнгу, является реинтеграция нашей психики, которая, обретая внутреннюю целостность, даёт нам ощущение подлинности. Юнг называет это «Самостью».
Самость – это не наше привычное «я». Напротив, это то, что лежит за пределами всех наших представлений о себе – это центр целостной психики, который парадоксальным образом находится везде и нигде. Самость – это и есть «Просвет Бытия», мы сами как явление Мира.
Джозеф Кэмпбелл
Выдающийся исследователь культур и цивилизаций Джозеф Кэмпбелл, вдохновлённый работами Юнга, описывает этот процесс внутренней трансформации в своей знаменитой книге «Герой с тысячей лиц».
Кэмпбелл детально разбирает структуры мифов, которые распространены под разными именами по всему свету, и обнаруживает эту единую структуру – историю путешествия к подлинности и призванию через символическую смерть и возрождение.
Этот путь всегда начинается с так называемого «зова к приключению» – момента, когда привычный ему мир перестаёт удовлетворять героя. Что-то внутри него самого начинает требовать большего – большего, чем простое существование в рамках известного, принятого, «подручного».
Момент, когда мы начинаем замечать иллюзорность своего существования, это и есть тот самый «зов». Если все наши привычные ответы на вопрос «кто я?» перестают нас удовлетворять, у нас нет другого выхода, как начать путь, поиск своего действительного «я».
Как и мифический герой, мы должны покинуть свой привычный мир прежних представлений о себе. Мы оставляем уютную, но тесную клетку своих убеждений, социальных ролей, привычных реакций, сражаемся с этими «чудовищами», проходим через «лабиринты», спускаемся в «подземное царство».
Наши страхи, наши привязанности, наше сопротивление изменениям – это препятствия, которые мы неизбежно обнаруживаем на своём пути.
Всё это маски «Персоны», которая взяла нас в плен, в процессе нашего взросления и воспитания. Но главное испытание – это, конечно, встреча с «Ужасом Ничто», с собственной, как её называет Карл Юнг, «Тенью».
«Тень» – это всё то в нас, что мы боимся в себе принять, всё то, что мы отбрасываем от себя как постыдное, низменное, ненормальное.
Конечно, мы всю жизнь хотели быть «хорошими», мы жаждали любви и понимания. Поэтому, тщательно конструируя своё «я», мы всячески оберегали его от того, что кто-то может осудить, что кому-то может не понравиться, что мы сами стали в себе ненавидеть из-за этого. Так что да – это наша «Тень».
Приобщившись к миру «социального», мы буквально разрезали, разорвали, разграничили своё бытие на две половины…
Первую из них мы считаем светлой. С детства мы воображаем себе, какими мы должны быть, чтобы понравиться другим, чтобы они нас приняли и полюбили. Это наше представление о себе, наша «я-концепция».
Вторая наша половина – то, что мы считаем своей тёмной стороной. Проблема в том, что мы её даже не осознаём. Это и в самом деле наша «Тень»: утилиты нашего неосознанного скрывают их в нашем подсознательном и бессознательном.
Это наш внутренний демон, наш Мара-искуситель, наш подлинный ночной кошмар. Отталкивая его от себя, мы лишь усиливаем внутренний разрыв. Но как иначе? Разве мы можем принять его, подчиниться ему? Что если он захватит, поглотит нас?!
Да, звучит ужасно…
Это, как её называют, та самая «тёмная ночь души».
Пробуждение
Сознание – это церебральная знаменитость, не больше и не меньше.
Дэниел Деннет
Но чего именно мы боимся? Что повергает нас в этот Ужас? Подумайте – мы боимся, что перестанем казаться «хорошими» и нас не будут любить. Однако же чьей любви мы ждём? Чего одобрения и милости?
Кризис трёх лет… Мы до сих пор ждём, что родители примут нас, несмотря на наше сопротивление. Наше «я» испытывало их любовь. И конечно, родители, живущие в мире «сущего» и «подручного», этот экзамен тогда провалили.
Но тут нечему удивляться – они и не могли поступить иначе, и мы на их месте поступаем точно таким же образом. И, что самое важное, именно так это и должно было случиться!
Ведь именно это заставило нас покинуть блаженный мир неведения, изначальное бытие. Именно это вынудило нас ощетиниться, защищая своё «я». Именно это привело к тому, что мы создали весь этот монструозный галлюциноз нашего понятийного сознания…
Как иначе мы смогли бы ощутить ту глубину страдания, что и вытолкнуло нас на путь?
Что бы ещё заставило нас рискнуть всей удобной и комфортной подручностью, иллюзией своего существования? И как без всего этого мы смогли бы различить свою «Тень», которую нам теперь предстоит принять?
Герой сражается с «Персоной» и «Тенью» – демонами и чудовищами своего внутреннего мира. Но он побеждает их не физической силой, а чистотой своего сердца, он побеждает их любовью и добротой.
Подлинное сострадание возможно лишь в том случае, если мы смогли проявить его к себе.
Принимая себя – полностью и целиком, более не разделяя себя на «хорошую» и «плохую» половины, – мы не подчиняемся своей «Перс оне», не склоняемся перед «Тенью», мы освобождаем их от самих себя.
Эти наши «внутренние демоны» ужасны, лишь пока мы боремся с ними, сражаемся за своё эго, за своё требование к себе быть «хорошим» и к другим, чтобы они любили нас. Но что в этом нашем потаённом эгоцентризме хорошего? Неужели мы и правда думаем, что врать самим себе и требовать любви от других – это лучшее, на что мы способны, и это то, что мы должны защищать?
Да, наше «я», даже самое «красивое и прекрасное», выпестованное в страхе о себе, – и есть наш подлинный демон. И это то, что нам следует отпустить. А в мире подручного и сущего это значит – умереть.
В этой смерти нашего эго и есть путь к воскрешению нашего бытия, но на новом уровне, в новом смысле, в подлинности действительной жизни.
В этой точке абсолютной неопределённости происходит то, что все мифы описывают как символическую смерть героя. В египетских мифах – Осирис расчленяется на части Сетом и возрождается в Горе, в греческих – герои спускаются в царство мёртвых, в христианстве – Христос умирает на кресте, чтобы воскреснуть и тем самым принести людям благую весть о вечной жизни.
Всё это красивые метафоры. Но они как нельзя лучше отражают тот принцип, без которого невозможно внутреннее пробуждение. Пробуждение, которое наступает только тогда, когда мы отпускаем всё, что считаем собой.
Эта «смерть» – обретение чего-то большего, подлинного. Как зерно должно умереть, чтобы дать новую жизнь, так и наше ложное «я» должно раствориться, чтобы обнаружить свою подлинность – то, что Юнг называл Самостью, а Хайдеггер – Открытостью Бытию.
Возрождение – не возвращение к прежнему состоянию. Герой возвращается не в обычный мир.
Пройдя через опыт растворения иллюзорного «я», мы, оставаясь в наличном и подручном, уже не пленники своих представлений, а свидетели чуда Бытия.
Кэмпбелл называл это «возвращением с даром» – герой приносит в мир то, что поможет другим. В нашем случае это – само свидетельство возможности освобождения,
живой пример того, что можно жить, не будучи захваченным бесконечной драмой страдающего «я».
Философия жизни
Философия есть образ жизни, есть способ