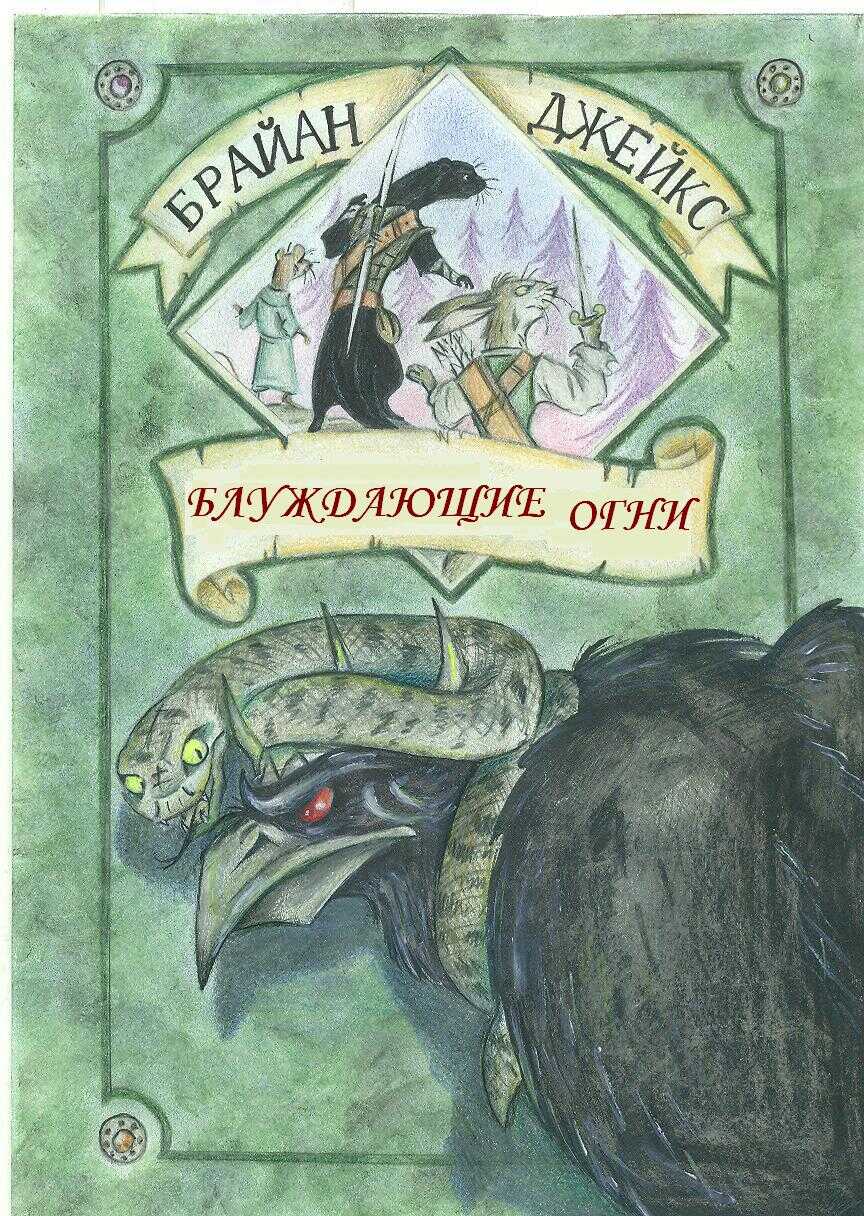друг детства, который живет в Вильнюсе.
Питер Пэн
В Латвийском национальном театре
Энергия. Откуда она берется и в чем ее природа?
Боль – одна из точек ее возникновения.
Страсть – другая. Страсть любовная, страсть гнева, страсть смеха, страсть нежности, страсть спора, страсть открытия, борьбы, тоски.
Воздух должен клубиться («движение воздуха – признак гениальности», как говорила Инна Соловьева).
Он может клубиться от боли одиночества и страха, и это может сочетаться встык со страстью, нежностью или смехом, то есть можно сочетать энергии, сочетать их природы. Я думаю, в театре это даже обязательно, потому что спектакль длится два часа и надо провести человека по гамме страстей.
А для «сгущения воздуха» нужны образы. Нужны переходы от одного образа, скажем насмешливого идиотизма, к другому образу, скажем трагического и неизбежного прощания.
Еще важная энергия – энергия сдавливающейся пружины. Вернее, сдавливаемой пружины. Энергия ожидания взрыва. Исследование этой энергии – достойная тема, так как ожидание события важнее, интереснее и богаче для искусства, чем само событие.
Пустое место возникает, когда связка есть, а энергии нет.
Энергия тишины осыпающегося пепла – тоже очень интересная и богатая энергия.
В основе может быть любой бензин: злость, отчаяние, может быть любовь, может быть авантюризм. Может быть упрямство. Все основы годятся. Главное – делать. Во времена, когда все снялось со своих мест (все и всё), почва поплыла под ногами, это ключевое слово. Якорь надо бросить, якорь в искусстве. Красота и гармония в сумасшедшем мире. В каждом спектакле должен быть свой «пожар» и своя «Набережная туманов».
Итак: «Питер Пэн» – взросление как предательство. Противоборство взрослению как смерти. Тема усталого волшебника, который не хочет, не верит, что Волшебная страна спасет мир, – дети же все равно вырастают. Энергии нет. Кончилась. Не верит, но делает. Противоборство из последних сил, через не хочу, срабатывает рефлекс… Энергия рефлекса? Упрямства? Долга?
А может быть, «страна чудес» – это мои спектакли? «Донкий Хот», «Opus № 7»… Ой. Прямо жуть. Художник рассказывает маленькой девочке о чудесах, которые он делал раньше. «Диснейленд» из моих спектаклей. Принести это все в новую страну, какой-то незнакомой девочке. Все свое богатство. То, что сделал, и то, что хочется сделать.
Или работы моих студентов: дуэль Пушкина, костер, закат и купание на закате…
Взрослый – функционер жизни. Цветные пилюли театра, образы – лекарство против «взросления». Взросление = скучнение.
Безнадежная и поэтому героическая борьба с этим.
А всю его компанию собрать из возрастных актеров этого театра. Не делать грим, а просто их взять. Тогда сразу расстановка сил не бутафорская, нужно только взять тех, кто еще может и хочет двигаться, тогда будет правда – вошли семь народных артистов Латвии и пытаются рассказать маленькой девочке, как счастливы они были. Сегодня в буфете были такие женщины – так не загримируешь. А девочка все время отвлекается на японский мультфильм.
А пошел помыть руки от краски, и, пока ходил, – девочка выросла. И новая спит в кроватке. Ой, ой, какая история.
Спектакль в Риге можно назвать PeterPan.com. То есть пришпилить романтизм коммерцией – www.PeterPan.com – поставить его на поток. Как доставку еды. По вызову. Но поток, который стал проклятием.
Примечание
Спектакль вышел в Национальном театре в Риге (Латвия) в 2024 году под названием «Питер Пэн. Синдром». Главные роли: Эгонс Домбровскиc и Дита Луриня. В остальных ролях артисты Национального театра.
История моей постановки «Питера Пэна» очень интересная. Она длилась очень долго, лет сорок пять.
Не удержусь и расскажу в двух словах, хотя к делу это прямого отношения не имеет.
Давно-давно, в середине семидесятых годов прошлого века, мы мечтали поставить этот спектакль с моим тогдашним другом Женей Арье, и Вениамин Балясный, замечательный писатель и драматург, написавший для моего папы и пьесу «Дорога» по «Мертвым душам», и «Острова в океане» по Хемингуэю, и «Мартина Идена» по Джеку Лондону, написал для нас, двух сопляков, пьесу по книге «Питер Пэн».
И я даже сделал макет декорации. С постановкой у нас с Женей так ничего и не получилось, никто из тех, кому мы предлагали эту идею, не «клюнул». Макет долгие годы хранился в мастерской моего друга Олега Шейнциса, и, когда его мастерскую подожгли, выяснилось, что огонь разводили, как это ни странно, в моем макете. Прошло лет десять.
Женя уехал в Израиль и, организовав там театр «Гешер», стал всемирно известным режиссером.
Не хочется погружаться во все душные нюансы наших биографий, но с Женей мы перестали общаться. Будучи много раз в Израиле, я в театр «Гешер» не заходил.
Прошло, как ни смешно, еще лет тридцать. И вот несколько лет назад, еще в Москве, по приглашению Виктора Рыжакова, который тогда руководил театром «Современник», я начал репетировать «Питера Пэна» там. К пьесе Балясного этот спектакль уже не имел отношения, а идея сделать историю о старом и уставшем волшебнике не уходила и, надо сказать, беспокоила еще больше.
Но «обстоятельства непреодолимой силы», как мы их назвали, прервали и эту работу, не дав довести ее до конца.
Женя Арье к этому времени умер, и театр «Гешер» завел со мной разговор о том, не хочу ли я поставить там спектакль.
Сначала я подумал, что конечно нет: бестактно входить в Женин театр, когда его уже нет на свете, когда он не приглашал меня туда при жизни.
А потом мне пришла в голову совершенно авантюрная идея, решающая сразу много вопросов: я захотел поговорить с Женей на сцене его театра. Я хотел договорить с ним. Договорить наши недоговоренные отношения. И заодно рассказать, что я стал режиссером и, более того, начал даже ставить в «Современнике», куда нам тогда и войти-то было невозможно, и начал ставить того самого «Питера Пэна». И показать ему несколько кусочков из неготового спектакля.
Даже сейчас эта идея кажется мне мощной, на грани чего-то кощунственного, но так необходимого мне тогда, даже и сейчас волосы мои чувствуют какой-то ветерок и начинают шевелиться.
Но, очевидно, этот «ветерок» шевелил не только мои волосы, и идея так и осталась идеей.
Так что постановка «Питера Пэна» в Риге – это третья ее реинкарнация.
Реквием
Начать надо с Мураками. Спокойно-спокойно. Двенадцатая глава его романа «Кафка на пляже». Американский военный дознаватель проводит допрос японской учительницы в 1944 году, после странного случая, произошедшего с ней и ее шестнадцатью учениками на прогулке в лесу. Тогда по непонятной причине все дети в один момент лишились сознания.
Учительница рассказывает дознавателю об этом странном происшествии с детьми. Долго и кропотливо дознаватель выясняет подробности.
Рядом со столом – схема того, как все это было. На столе детские игрушки, герои сказок, – это игрушки этих детей. Сейчас это вещдоки. Взволнованная учительница рассказывает, пытаясь вспомнить детали. Мы не понимаем, к чему все это идет, но заворожены деталировкой рассказа и деталировкой выспрашивания. Долгая тщательная запись и детальные расспросы. Такие же ответы. Дознаватель, не добившись ясности, делает перерыв.
На столе лежат детские игрушки.
А потом вывозят на тележке специальный фанерный объем, ящик, как для скульптуры в Летнем саду. Ставят, ломиками открывают, там оказывается высокий стеклянный куб, в котором сидит девочка. В руках у нее одна из тех игрушек, что лежали на столе у следователя. Мягкая игрушка. Телега уезжает, фанерные стенки уносят. Девочка ждет. Появляется парень, она вскакивает: «Принц!» В аквариум начинает набираться вода. Она набирается медленно, но неуклонно. «Я хочу вам вернуть подарки…» «Я ничего тебе не дарил, – говорит парень и гладит ее лицо через стекло. – Иди в монастырь…»
А вода набирается. Постепенно девочка начинает паниковать и плакать, она не понимает, что происходит, почему все так, а не иначе, а вода уже по колено. А парень прощается с ней, всеми своими словами утешает ее и плачет. «Не надо рожать детей…» А вода уже по шею, она пытается подпрыгнуть и дотянуться до узкой полоски воздуха наверху, но стекло скользкое, она