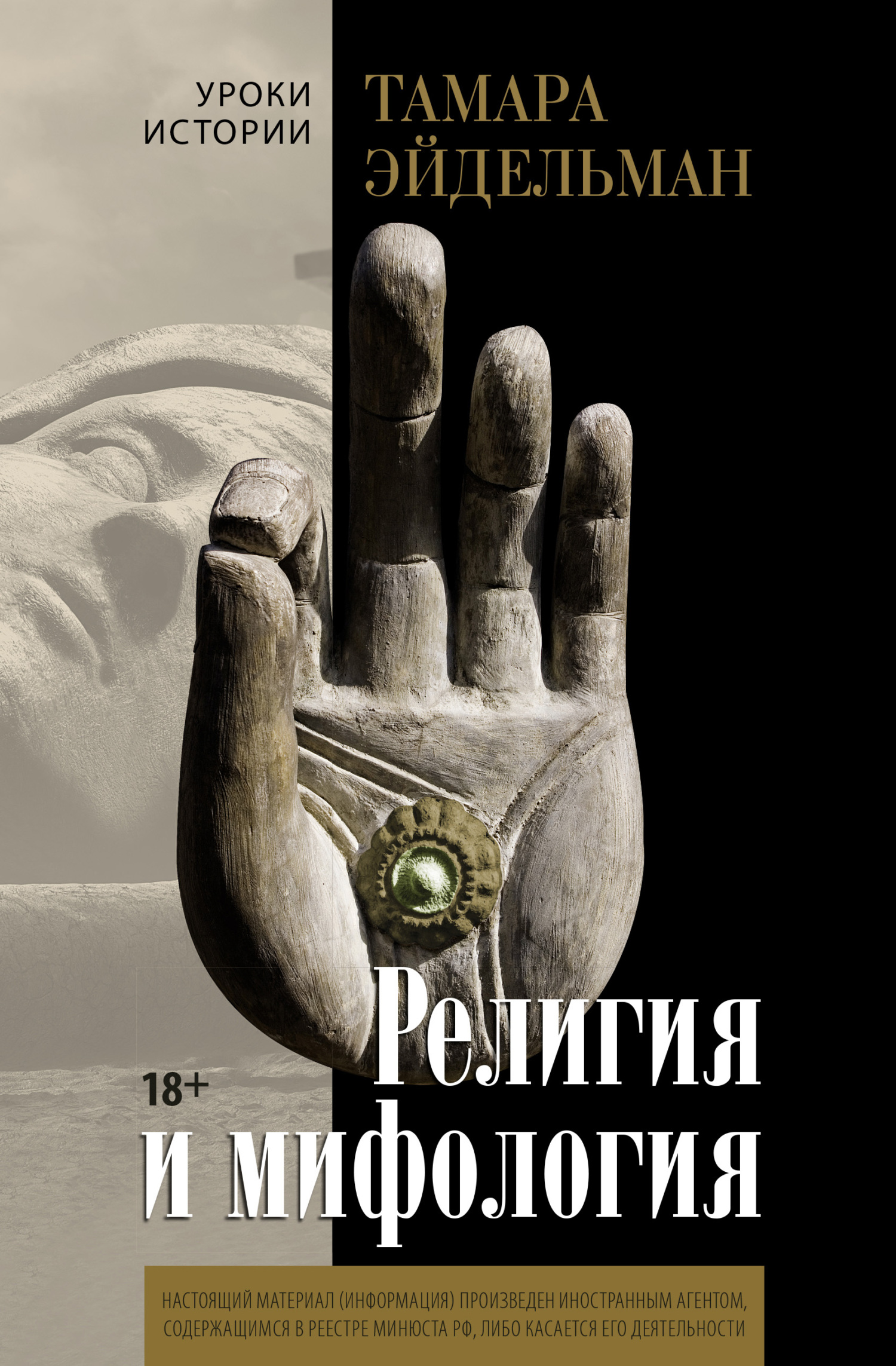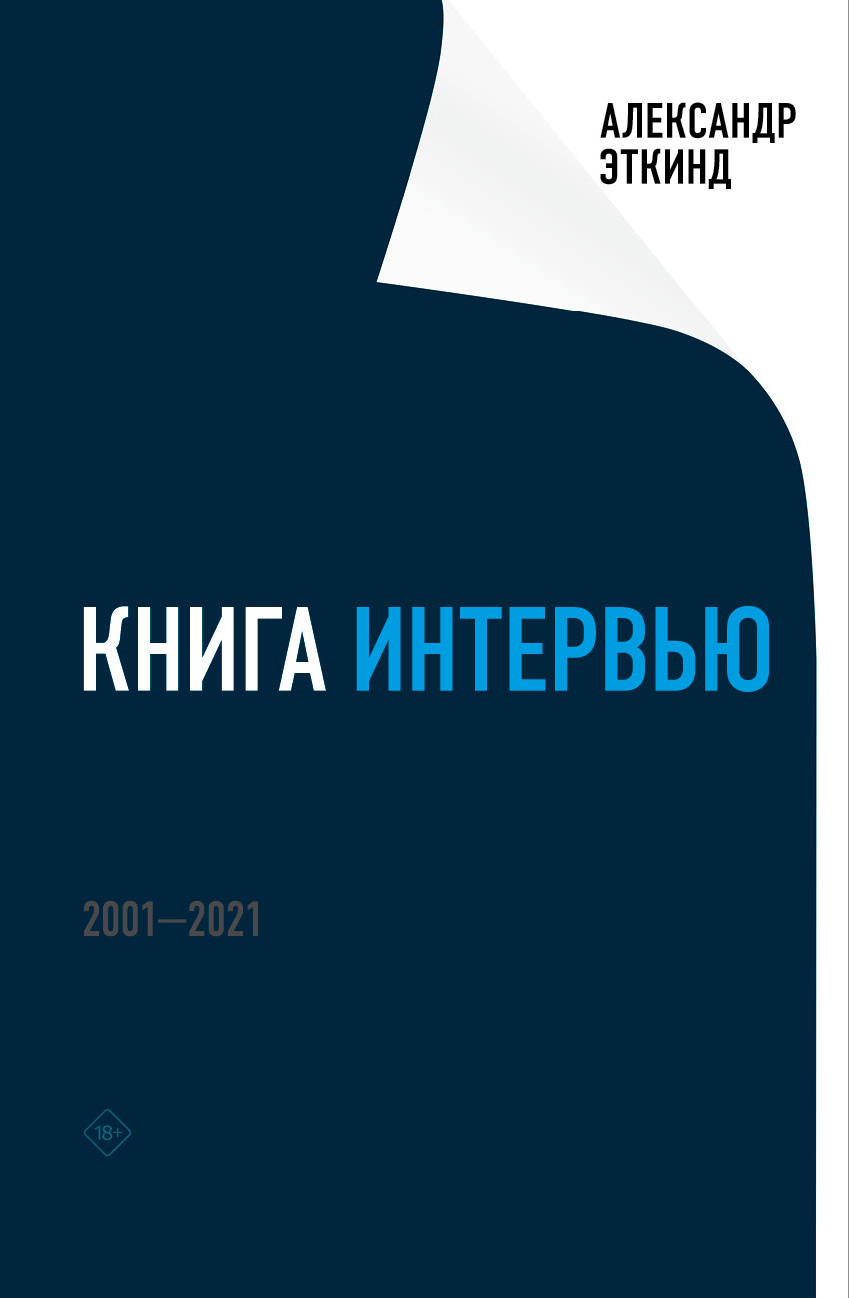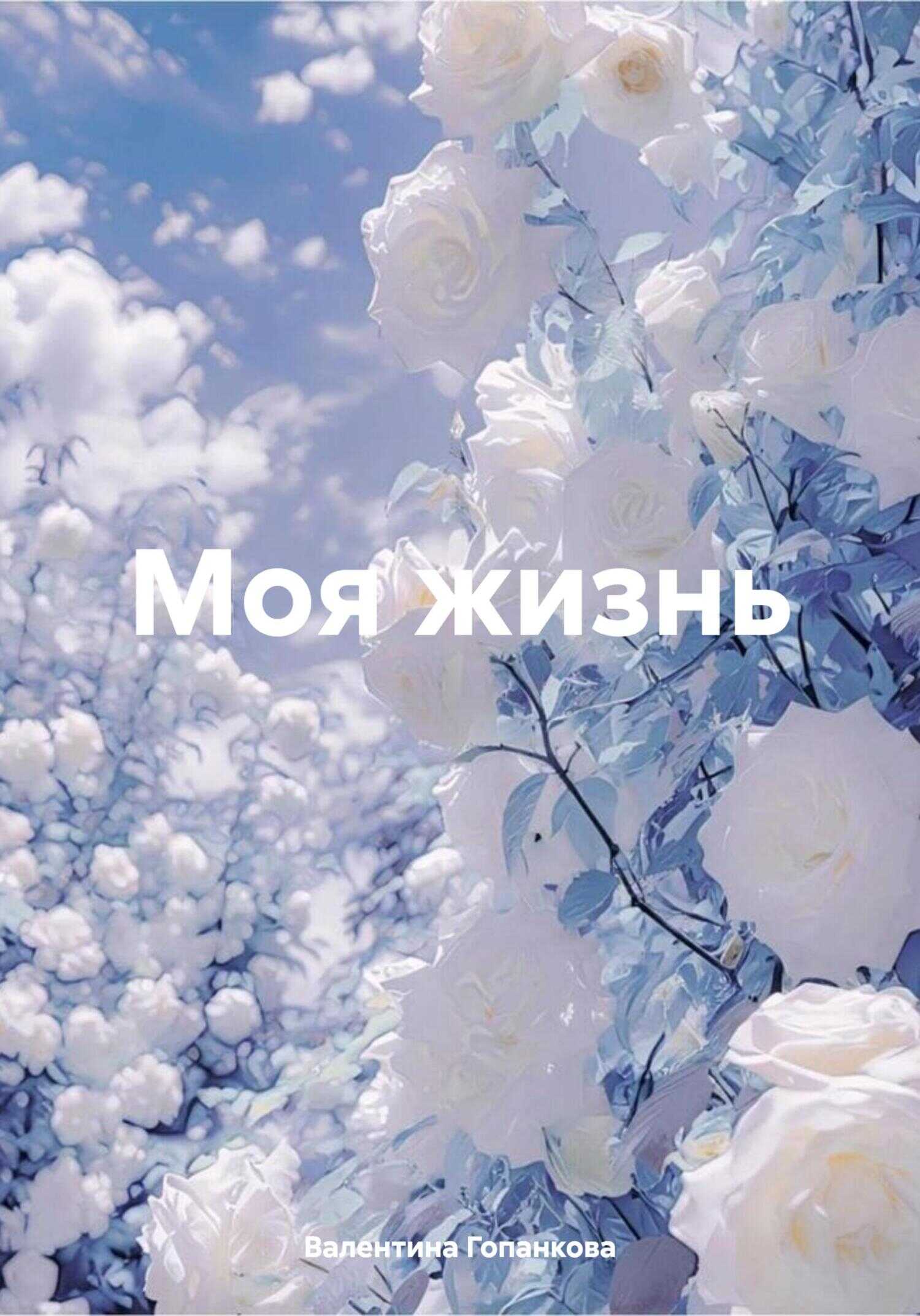людей27. У каждой нации свои вариации этих мифов, например американский «миф о ведущей роли президента» и триумфальный «главный нарратив», которые сопровождаются левыми, правыми и конспирологическими контрнарративами28. Миф об астронавтах «Аполлона», описанный историком Роджером Лониусом, включает в себя несколько компонентов: астронавт служит примером «обыкновенного человека», но в то же время олицетворяет собой американский идеал, воплощая образ маскулинного героя – молодого, веселого, бодрого воина, который, под руководством старшего и более мудрого наставника, указывает нации путь прогресса к утопическому будущему29.
Подобно турку и итальянцу в романе Памука, которые обмениваются идентичностями, слушая истории друг друга, астронавты тоже подвержены влиянию собственного имиджа в популярной культуре. Документальный фильм «В тени луны» Дэвида Сингтона целиком состоит из интервью с астронавтами программы «Аполлон», проиллюстрированных фрагментами архивных съемок30. Эта лента сделана не как набор самостоятельных историй об отдельных полетах; вместо этого она сплетает фрагменты историй астронавтов в метаисторию, которая размывает разницу между разными полетами и даже разными астронавтами. Выглядит так, будто составной образ астронавтов рассказывает составную историю о посадках на Луну. В другом документальном фильме, «Все это чудо» Джеффри Рота, используется похожая техника, чередующая комментарии семи астронавтов, высаживавшихся на Луну31. Как отметил один из обозревателей, «монтаж был сделан настолько мастерски, будто говорят не семь индивидов, а один – зачастую говорящий продолжает предложение, начатое предыдущим оратором»32. Здесь органично смешиваются индивидуальные истории и личности астронавтов. Каким образом достигается такое смешение? Прием ли это создателей фильма или работа фундаментального культурного механизма, в реальной жизни вытесняющего индивидуальные идентичности ради соответствия культурному стереотипу астронавта? Что происходит с альтернативными воспоминаниями? Это художественное смешение воспоминаний можно рассматривать как метафору того, как общество стирает и переписывает историческую память.
Советские космические мифы оказались удивительно схожи с мифами американскими, только с соответствующими заменами: новый советский человек вместо «настоящего парня» (right stuff) и превосходство социализма вместо превосходства капитализма. Однако важное отличие состояло в том, что в советском мифе из культурной памяти стирались любые ошибки, связанные с космосом. Ограниченный секретностью, с одной стороны, и требованиями пропаганды, с другой, главный советский нарратив космической истории свелся к набору клише: безупречные космонавты выполняют безошибочные полеты с помощью безотказной техники.
В отличие от американских публичных контрнарративов, советские контрвоспоминания сформировали устную традицию, полностью отделенную от письменных источников. Контрнарративы часто ассоциируются с группами, которые «исключены», «игнорируются» или как-то еще маргинализируются в исторических описаниях33. Однако контрвоспоминания советской космической истории культивировались известными публичными фигурами (космонавтами) и элитными технократами (космическими инженерами); при этом возникало противоречие между их личными воспоминаниями и публичными образами. Например, ощущая потребность как-то соответствовать своему идеализированному публичному образу, Гагарин превратился в «искреннего обманщика», искусного мастера «правдивой лжи» (truth-lie)34. «Правдивые истории» событий, урезанных или перевранных в официальных отчетах, передавались от одного поколения космонавтов и космических инженеров к другому, порождая контрмифы и формируя коммуникативную память этих профессиональных групп. Контрвоспоминания определяли их приватную идентичность точно так же, как главный нарратив формировал их публичный образ.
Распространяясь за пределами космического сообщества, контрвоспоминания смешивались с общественными настроениями, которые варьировались от неподдельного энтузиазма до глубокого цинизма. Это смешение породило множество городских мифологий – от сказки о том, что Сталин лично основал советское ракетостроение, до конспирологических теорий гибели Гагарина и политических шуток о чрезмерно усердных космонавтах и невежественных политиках35.
В нашей книге исследуется взаимодействие культурной и коммуникативной памяти на материале широкого спектра советских культурных практик вспоминания космической эпохи с 1960-х годов до перестройки и постсоветского времени – от опубликованных воспоминаний до публичных ритуалов и официальных историй. В советском контексте – вопреки стереотипу о централизованном контроле властей над историческим дискурсом – границы между разными формами культурной памяти были весьма проницаемыми, а в создании мифов участвовали многочисленные акторы с разными методами и целями36. В полуприватных пространствах чрезвычайно засекреченной космической отрасли коммуникативная память рассказов ветеранов смешивалась с символизмом публичных ритуалов и формировала культурную память космических инженеров и космонавтов. Воспоминаниями, скрытыми от внешнего мира, активно делились в таких промежуточных пространствах памяти – между частным и публичным, неформальным и официальным, техникой и политикой. С опорой на личные дневники и интервью с участниками космической программы в этой книге доказывается, что и мифы, и контрмифы играли конструктивную культурную роль, снабжая публичный дискурс набором коллективных тропов и отсылок, формируя идентичности космонавтов и космических инженеров, воплощая или подрывая официально декларируемые советские ценности.
Первая глава посвящена становлению главных мифов советской космической эпохи, таких как миф о Королеве и миф о космонавтах. Особое внимание уделено мемуарам и памятным мероприятиям как культурным средствам мифологизации истории. Официально распространяемые мифы о советском космосе лили воду на мельницу пропагандистской машины, давали наглядные репрезентации идеологическим понятиям социализма и национализма и цементировали идентичность нации. Вместо того чтобы рассматривать эти мифы исключительно как инструменты пропаганды, в этой главе они изучаются как продукты советских практик вспоминания – как публичных, так и приватных. Мифы о космосе конструировались не только сверху. Разнообразные исторические акторы – от космонавтов и космических инженеров до военных руководителей, деятелей искусства и широкой общественности – вносили свой вклад в космическую мифологию, и он далеко не всегда был созвучен официальной версии.
Во второй главе обсуждается влияние профессиональной культуры инженеров-ракетчиков позднесталинского времени на инженерные и организационные практики космической программы в хрущевский период. Сталинское наследие и двойной военно-гражданский характер работы инженеров-ракетчиков оказали глубокое влияние на идентичность этой элитной группы советской технический интеллигенции. Фокусируясь в этой главе на таких понятиях, как контроль, авторитет и ответственность, я исследую роль инженерной культуры в формировании советского подхода к автоматизации управления пилотируемых космических аппаратов. Космические инженеры хрущевского периода, опираясь на техники покровительства и налаживания связей, бытовавшие в сталинскую эпоху, смогли преодолеть неэффективность системы управления советской промышленностью и продвинуть свою повестку исследований космоса.
В центре внимания в третьей главе – расхождение между публичным имиджем советских космонавтов и их профессиональной идентичностью. Советская пропаганда часто использовала советскую космическую программу как символ более масштабного и амбициозного политического и инженерного проекта – строительства коммунизма. Оба проекта предполагали конструирование новой личности, и космонавт часто рассматривался как модель «нового советского человека». Советские космонавты публично олицетворяли коммунистический идеал, активную человеческую деятельность по социально-политическому и экономическому преобразованию общества. В то же время космические инженеры и психологи считали людей-операторов составной частью сложной технической системы и отводили космонавтам весьма ограниченную роль в управлении космическим аппаратом. В этой главе изучается, как личность космонавта