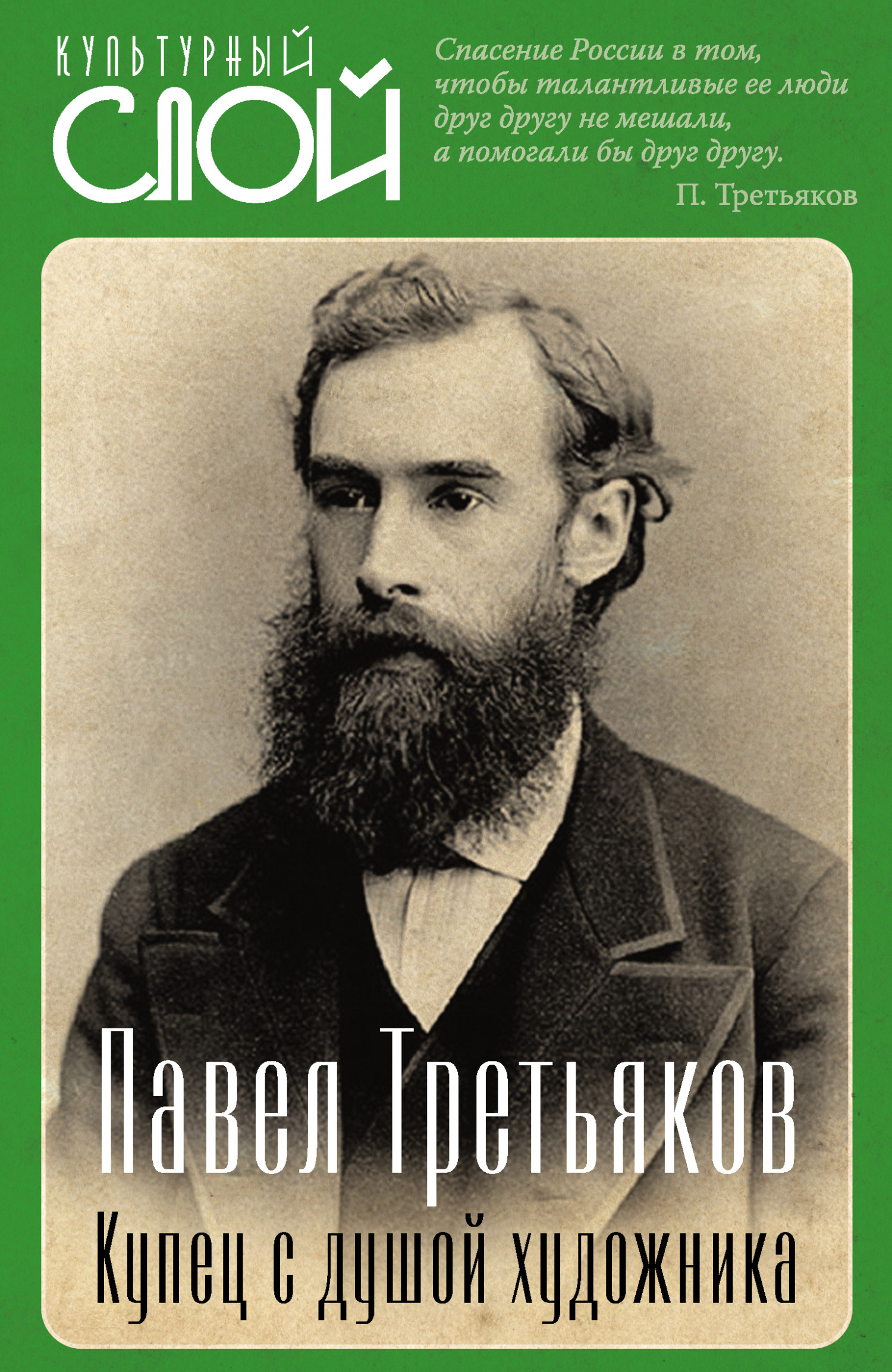Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
выгоды или общепринятой дипломатии его не трогали. Но главное – он был равнодушен к современному искусству, искренне полагая, что modern art давно убили путем продаж, делячества, рекламной шумихи. Он предпочитал сохранять дистанцию, ни с кем особо не сближаясь, не вступая ни в какие союзы и кружки, всеми силами избегая любых обязательств дружбы и «заказных» статей.
В искусстве он искал тех собеседников, которые, выражаясь высокопарно, были ближе всего к его художественному идеалу. Отсюда пристрастие к художникам Новой Петербургской академии, основанной его приятелем и поклонником Тимуром Новиковым. Конечно, это всегда был взгляд со стороны, с недоступной высоты эрмитажного окна. Аркадий категорически избегал навешивать на кого-то ярлыки или расставлять художников по ранжиру. Он люто ненавидел всякую иерархию. И со своими современниками общался точно так же, как с великими классиками, не делая особых различий. Ровно и вежливо. Позволяя себе только изредка, когда это уместно, ироничную улыбку. Перед глазами он постоянно держал «мировой пейзаж», который уводил его взгляд в туманную бесконечность, но вдруг задерживался на какой-нибудь неожиданно яркой детали, вроде развевающихся черных ленточек на бескозырках моряков Гурьянова, или паука, ползущего по мраморной щеке Аполлона на фотографии Бориса Смелова, или электрической лампы, зубасто ощетинившейся на грандиозном полотне Ольги Тобрелутс «Армагеддон». Всему этому Аркадий мгновенно подбирал рифму или аналог в мировом искусстве. На все у него было свое мнение и свой вердикт, который он мгновенно выдавал, лишь изредка сверяясь с рукописными карточками эрмитажной библиотеки.
Google он как-то не особо доверял, а с современными технологиями был в довольно напряженных отношениях. Ему импонировал культ классики и красоты, который провозгласил Тимур Новиков и его последователи. Но все же новейшее искусство Аркадий воспринимал преимущественно через прошлое, через классическую традицию.
Искусство обрело свободу от патологической зависимости от страха отставания, получая возможность движения в любом направлении. Искусство существует вне Времени, поэтому искусство Несовременно. Или неСОВРЕМЕННО, все равно». (Из статьи «Что такое “современный”?»)
На самом деле это самому Ипполитову в какой-то момент больше всего захотелось обрести свободу от тесных рамок искусствоведения, от своей музейной кельи, которая временами, несмотря на чудный вид из окна, все больше смахивала на тюремную камеру, наконец, от собственной маски надменного и неприветливого сноба, так прочно приставшей к его лицу.
Ему смертельно надоело числиться по ведомству искусствоведов, хранителей, историков. Он знал, что способен на большее – быть не просто интерпретатором, просветителем, экспертом, но творцом! Отсюда тайное раздражение, которое вызывали у него потуги и претензии на творчество других. Отсюда и неудовлетворенность, которая прорывалась у него то и дело в текстах и письмах. Думаю, и один из недугов, от которых Аркадий особенно страдал в последние годы, – хронический бронхит – был реакцией на состояние перманентного удушья, в котором он пребывал. И это не фигурально, а буквально так. В эрмитажных покоях ему давно нечем было дышать. При том, что никто его специально не притеснял, не прессовал. Он мог делать – и делал! – что хотел. Насколько я знаю, его просто старались избегать. Заговор молчания музейного большинства. Ни одной новой выставки, ни одного сколько-нибудь существенного проекта. А сам Аркадий был слишком гордым человеком, чтобы самому сделать первый шаг. В этом скорбном и обиженном безмолвии и проходили по большей части его дни.
В родном городе его тоже многое раздражало. Особенно приводили в бешенство попытки так называемых «исторических воссозданий». Помню его лицо по возвращении из Летнего сада, когда там была закончена печально знаменитая реконструкция. Это было лицо человека, только что пережившего гибель близкого. Не в правилах Аркадия было охать и ахать, а тем более писать жалобные петиции. С этим почерневшим от горя лицом он сел и написал свое знаменитое эссе «Ноябрь», где предрек свою смерть («Я знаю, что умру в ноябре»). «Знаю, что умру на заре! На которой из двух, вместе с которой из двух – не решить по заказу». На самом деле он не «заказывал», не пророчил. Он, как и Цветаева, знал.
Это знание собственной судьбы и людей ему дано было с самого начала. Сейчас я думаю, что, может, поэтому он так перегружал себя работой последнее время – выставки, книги, лекции, выступления… Он как будто предчувствовал, что времени остается в обрез. И ему надо спешить.
Особенно когда он бесстрашно замахнулся на собственную версию «Образов Италии» Павла Муратова, одну из любимейших книг русской читающей публики.
Феномен муратовских эссе заключался в том, что в них была найдена идеальная формула той самой «всемирной отзывчивости русской души», которую первым вывел Достоевский. Именно такими хотели себя видеть русские европейцы на rendezvous. Вдумчивыми, внимательными, просвещенными, влюбленными в Красоту и поклоняющимися исключительно Красоте. Именно они не пропускали ни одной премьеры Русских сезонов Сергея Дягилева в Париже. Именно они были подписчиками и читателями первых выпусков журнала «Столицы и усадьбы» («журнала о красивой жизни»). Именно они по большей части зарабатывали в России, чтобы тратить и путешествовать за границей.
Особое очарование муратовским очеркам придавал тон некоего прощального аудита. Автор не просто обозревал прекрасные города и достопримечательности Италии. Он производил свою персональную ревизию перед тем, как попрощаться с мирным голубым небом и вечной Красотой. Первая мировая война, которая разразилась меньше чем через два года после выпуска второго тома «Образов Италии», надолго вычеркнет русских европейцев из списков постояльцев европейских гранд-отелей, пассажиров Orient Express и посетителей великих музеев. Отныне этой привилегией располагали только обеспеченные эмигранты, успевшие вовремя вывезти свои капиталы, или ответственные работники советских консульств и торговых ведомств.
Судьба любит странные рифмы и сближения. Как и Муратов, Аркадий был страстно влюблен в Италию. Оба они состояли по музейной части (после революции Муратов какое-то время числился в штате Румянцевского музея и считается одним из отцов-основателей Музея Востока в Москве), оба не чурались и современности, время от времени публикуя статьи и колонки на актуальные темы. Про Муратова хорошо сказала Нина Берберова: «Он был человеком тишины, понимавшим бури, и человеком внутреннего порядка, понимавшим внутренний беспорядок».
Эти слова можно было бы смело адресовать и Аркадию, который все знал и про бури, и про тишину. Бесконечно дорожил порядком. В делах, в отношениях, в своих бумагах. Никогда не опаздывал на встречи. Никогда не срывал дедлайны. Старался быть предельно точным и пунктуальным, хотя это стоило ему иной раз неимоверных усилий.
И все же его «Образы» – это совсем другая книга (книги!), чем у Муратова. Совпадают только названия итальянских городов и великих полотен, похоже написание знаменитых фамилий. И так все
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113