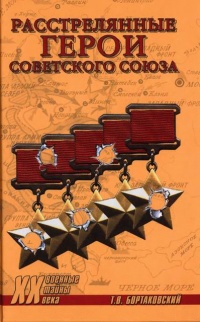Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 82
заплакал продавец.
– Там могут! – согласно кивнул вахтер. – Там татары грузчиками… народ лихой! Вороватый! Осип Аронович! – вдруг окликнул он худого до патологии парня в тюбетейке и с тортом в руках, проходившего через вертушку.
– Вы такую Лактионову… как маму звать? – спросил он у Гали.
– Мама Клавдия! – сообщила девочка.
– Лактионову Клавдию, актрису, знаете? – спросил вахтер.
– Знаю, – тонким томным голосом, растягивая гласные, ответил парень, – она у Вахтангова служит.
Яблочник, не в силах сдерживать нахлынувшие на него чувства, повторяя:
– Благодарствуйте вам! Благодарствуйте! Вот как все разрешилось-то! – вынул из карманов оставшиеся яблоки и одарил ими танцовщика Большого театра.
* * *
– Подождите здесь! – распорядилась значительного вида тетка с красной повязкой на руке и ушла по полукруглому коридору, в который выходили бесчисленные узкие двери.
Торговец и Галя разместились на крытой красным бархатом банкетке. Торговец с наслаждением вытянул натруженные за день ноги и сразу же задремал. Галя тихонько встала и пошла на неясные звуки, доносившиеся из-за высоких дверей. Она толкнула одну из них и очутилась в кромешной темноте. По дыханию, покашливанию, невидимому шевелению она поняла, что здесь люди. Много людей.
Откуда-то из-за смутных силуэтов доносилась громкая протяжная речь и женский плач. Галя осторожно пошла на плач, споткнулась о чью-то ногу, потом вспыхнул яркий свет, заиграла музыка. Галя увидела высокую сцену, а на сцене маму – бледную, невероятно красивую, в длинном кружевном белом платье…
– Мама! – закричала Галя. – Мама! Мамочка!
В ярком свете, идущем со сцены, обнаружился заполненный людьми зал и проход между рядами, по которому Галя побежала к сцене.
– Мама! Мама! – радостно кричала Галя, пытаясь влезть на барьер оркестровой ямы.
Это только кажется, что профессиональные театральные актеры, да еще и в идущем не первый сезон спектакле, в роли, переигранной десятки раз, играют «механически» – от сцены к сцене, от начала спектакля до антракта… Актерам понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, что в зале происходит что-то необыкновенное.
Клавдия, не оборачиваясь к залу, продолжала говорить свой текст, когда плачущую Галю один из музыкантов снял с барьера и передал другому. – Где твоя мама? – спросил принявший девочку музыкант.
– Вот она! Вот! – указывая пальчиком, кричала Галя.
– Ее зовут Лактионова Клавдия!
Она вырвалась из музыкантских рук, пробежала среди пюпитров и оркестрантов к маленькой лестнице, ведущей на сцену, и начала неуклюже подниматься по высоким ступеням, не выпуская из рук ни фотографии, ни пластинки.
– Что? Что происходит? – не видя дочь, спросила Клавдия шепотом у партнеров. – Что в зале?
Галя уже бежала к ней по сцене, протягивая руки с фотографией и пластинкой – предметами, всю ее маленькую жизнь олицетворявшими для нее маму.
Клавдия увидела бегущего к ней ребенка и растерянно спросила:
– Товарищи, чей ребенок? Заберите ребенка со сцены!
И только когда Галя обняла ее, уткнувшись лицом в низ живота, Клавдия поняла, что эта девочка связана с нею, и растерянно спросила:
– Галя? Доченька? А где бабушка?
В гримуборной счастливая Галя сидела на руках еще не пришедшей в себя Клавдии:
– Бабушку похоронили на маленьком кладбище. На Заречном дорого было, – рассказывала она матери. – Батюшка был… отпевал, все было благочинно… – пересказывала она чужие слова. – Бабушка в гробу маленькая-маленькая была… как девочка! Ее в юбку в горошек одели и в белую кофту кружевную. Тетушки теперь дом с садом делить будут на приданое и замуж выходить…
Клавдия беззвучно плакала. Слезы катились из ее глаз, проделывая в густом гриме затейливые извилистые дорожки, а Галя, не чувствуя своей ненужности, продолжала распирающий ее рассказ:
– Они мне пирог в дорогу испекли, а пирог сырой… тесто, наверное, не взошло… Я его съела, и у меня живот заболел…
Галя заметила, что мама плачет.
– Ты от счастья плачешь? – уверенно спросила она.
Мать молча кивнула.
– А что мы теперь делать будем? – крепче обняла маму Галя.
– Будем жить… – ответила мать.
– Худая какая! – отметила соседка Клавдии по гримерной, тщетно пытавшаяся стереть обильный грим с лица. – Кожа да кости! Изголодалась в дороге? На, покушай… – предложила она Гале извлеченное из сумки яблоко.
Галя не могла отказать маминой подруге, тем более одетой в не менее красивое, чем у мамы, платье. Морщась, она откусила красный яблочный бок, и ее тут же стошнило.
Мама в пьесе о Великой французской революции «Четырнадцатое июля» играла Луиз-Франсуа Конта – парижскую куртизанку, по версии автора пьесы Ромена Роллана – трибуна и кумиршу парижской черни. Декорации на сцене изображали парижскую площадь, запруженную простым рабочим людом – актерами театра. Луиз-Франсуа взобралась на двуколку с капустой, запряженную в живую лошадь, спокойную от старости и влитой в нее перед спектаклем браги, и начала произносить пламенную речь:
– Вам меня не запугать! Вы не любите королеву? Вы хотите избавиться от нее? Что ж, выгоняйте из Франции всех красивых женщин! Только скажите – мы быстро разберемся! Посмотрим, как вы обойдетесь без нас! Какой дурак назвал меня аристократкой? Я – дочь торговца селедкой! Моя мать содержала лавочку возле Шатлэ! Я так же работаю, как и вы! Я так же, как и вы, люблю Неккера! Я – за Национальное собрание![4]
Эту речь слушала в кулисе Галя. Было ей уже десять лет. Она была обильно измазана углем, одета в драное платьице, за спиной на лямке была привязана тяжелая корзина с разнообразным тряпьем. Она ожидала своего выхода и от нетерпения переступала босыми ногами по грязным доскам сценического пола.
К девочке, неслышно ступая, подошел старик.
– Сама или ущипнуть? – спросил он.
– Ущипни, – попросила Галя.
– Пора уже самой научиться, – проворчал старик. – Год, почитай, тебя щиплю!
Он скрутил кожу на ее ручке. Галя тихо взвизгнула, из глаз ее потекли обильные слезы.
– Пошла! – старик легонько подтолкнул ее в спину.
Галя, плача навзрыд, выбежала на сцену, в толпу революционных парижан. Тогдашний соратник Робеспьера Марат, гладя Галю по голове, ласково спросил:
– Что с тобой, малютка? О чем ты плачешь?
– Меня зовут Жюли! – что есть силы крикнула Галя. – Моя мать прачка! Мы за тебя, о Марат!
– Тебя зовут Жюли. Твоя мать прачка. Ты за меня. А знаешь ли ты, чего я хочу? – вопросил Марат, почему-то продолжая гладить Галю по голове, но обращаясь к толпе.
– Свободы! – закричала Галя-Жюли, подымая вверх руку.
Темный, невидимый из-за света рампы зал отозвался аплодисментами.
«Конта», волоча за собою Жюли, влетела в самое начало очереди, состоявшей из еще не переодетых, в париках, артистов, только что отыгравших спектакль. Очередь стояла в окошечко театральной профсоюзной кассы.
– Мариша, милая, пропустишь? – вклинилась «Конта» перед девушкой, одетой маркитанткой. – Ничего не успеваю! Надо Гальку домой отконвоировать и на концерт в «Союз печатников» лететь, там денег не платят, но обещали в их ОРСе с обувью помочь!
– Становись, – разрешила «маркитантка».
– А по скольку дают? – тараторила «Конта».
– По шесть, – со скорбным вздохом отвечала снабженка национальных гвардейцев.
– А на воскресенье? – ахнула Клавдия.
– На воскресенье не дают, – так же скорбно продолжала «маркитантка».
– Почему? Всегда давали! – возмутилась Клавдия.
– Мама, – дернула за руку «Конту» «Жюли», – как я сегодня играла?
– Хорошо! – отмахнулась от дочери Клавдия. – Нет! Так дело не пойдет! Надо протестовать! В дирекцию надо идти, в партийную группу! – с интонациями лидера парижской черни возмущалась мать Гали. – Мы в воскресенье играем, значит, нам должны давать талоны и за воскресенье!
– Мам! А плакала я хорошо? – приставала Галя.
– Хорошо ты плакала, – рассеянно похвалила мама.
– Значит, я тоже стану актрисой? – радостно спросила девочка.
– Если будешь лезть вне очереди, то станешь не актрисой, а такой же наглой дрянью, как твоя мама! – величественно сказала старуха, стоявшая в очереди вслед за «маркитанткой».
– Как вы выражаетесь при ребенке? – взвилась Клавдия.
– Действительно, Софья Андреевна, – вступилась за подругу «маркитантка». – Я для Клавдии очередь занимала.
– Сама молчи, бездарь! – прервала ее старуха. – Понапринимали в театр шлюх провинциальных и удивляются, чего это зритель не ходит! А зритель – он не дурак! Он разницу знает между борделем и храмом искусства!
– Это кто бездарь? – начала наступать на старуху «маркитантка». – Кто, я спрашиваю?
– Ты! – взвизгнула старуха.
– Я? – переспросила «маркитантка», краснея в преддверии нешуточной драки.
– Ты! – подтвердила
Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 82