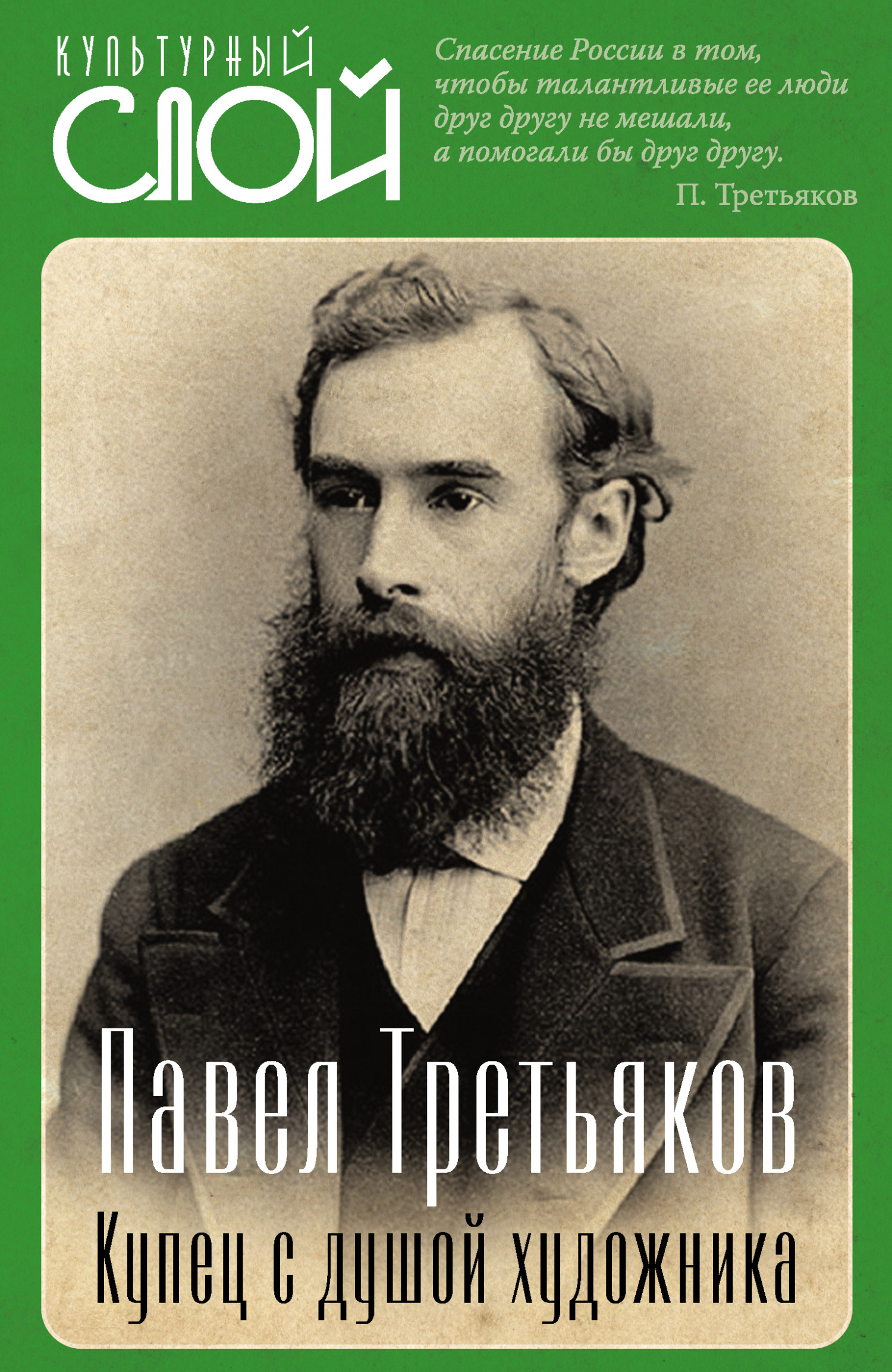Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
то можно сказать, что Италия занимает в Эрмитаже самую обширную территорию. С экспозицией Зала камей поступили, как Екатерина с Камейным кубком: ее ликвидировали. Геммы убрали, и собрание резных камней, до того бывшее единым, было разделено на геммы античные, отданные в Отдел античного мира (ОАМ), русские, доставшиеся Отделу истории русской культуры (ОИРК), и европейские, пошедшие в ОИЗЕИ. Величие императорского собрания гемм пожухло, они в большинстве были отправлены в хранение, а частью оказались рассыпанными по экспозиции, но бывший Зал камей стал центром экспозиции итальянского искусства, заняв чуть ли не центральное положение в Эрмитаже. Он естественно заканчивает повествование о Ренессансе, развернутое в надворной анфиладе, и готовит зрителя к переходу от ренессансной Италии к Италии барокко, расположившейся в просветах и кабинетах. Что может быть центральнее в мировом искусстве, чем искусство Рима времени пап Юлия II и Льва X? Ничего, как нам сказал великий Энгельс. При этих двух папах Рафаэль расписал Станце (Stanze, «комнаты») и Лоджиа, а Микеланджело – Капелла Систина. Великие фрески двух гениев определили римский Высокий Ренессанс, а марксизм, да и не только он, считает римский Высокий Ренессанс вершиной мирового искусства. Зал камей вплотную прилегает к галерее, декорированной заказанными Екатериной II копиями фресок в Лоджиа ди Рафаэлло, и к залу с фресками школы Рафаэля с виллы, располагавшейся на холме Палатино, так что ему сам бог велел Высокий Ренессанс и представлять.
* * *
Рафаэль, признанный при жизни королем художников, – художник коронованных особ. Совсем еще молодой, он был столь знаменит, что высокопоставленные персоны заваливали его заказами. Стоили его картины дороже всех, обладать ими могли только самые могущественные и богатые. Уже к XVIII веку практически все его произведения стали украшением королевских собраний, так что разыскать приличного Рафаэля на антикварном рынке было сложно. Обладание картиной Рафаэля означало принадлежность к самым могущественным и богатым: у всех императоров и королей были свои Рафаэли, а у русских царей их не было. Екатерина II это учла и раздобыла двух: «Святого Георгия, поражающего дракона» и «Святое Семейство с безбородым Иосифом». Затем Николаю I удалось купить «Мадонну Альбу», а Александру II – «Мадонну Конестабиле». В Императорском Эрмитаже оказалось четыре Рафаэля: два небольших ранних, шедевральные, флорентийская вещь хорошего качества и безусловный зрелый шедевр римского периода, «Мадонна Альба». Не сравнить с Рафаэлями в Уффици, Лувре и Прадо, но все ж таки первого разряда коллекция, лучше, чем в Вене, значимая и вполне императорская.
Короли королями, но в России имя Рафаэля звучит по-особому. В XIX веке для русской интеллигенции оно было не просто именем художника, общим мнением Европы признанного лучшим, а означало Идеал с прописной буквы. Ни одной другой картине русская литература – большая русская литература, не искусствоведение – не посвятила столько страниц, сколько она посвятила «Сикстинской Мадонне», так что это произведение Рафаэля с полным правом можно назвать самой влиятельной картиной в России. Большинство русских ехало в Европу через Дрезден, и Дрезденская галерея была первой крупной европейской публичной картинной галереей на их пути, посещение которой было обязательным, и обязательным было восхищение перед «Сикстинской Мадонной». Для Достоевского Рафаэль не просто любимый художник и гений, превосходящий всех остальных живописцев, но маяк, указывающий путь сквозь потемки жизненного бытия. Тем же он был и для Александра Иванова, создателя главной картины в истории русской живописи. Советские чиновники в погоне за валютой на традицию наплевали, и из четырех императорских Рафаэлей в Государственном Эрмитаже осталось только два, так как «Святой Георгий, поражающий дракона» и «Мадонна Альба», лучшие, были проданы. Двух оставшихся и поместили в Зале камей, повесив на два отдельно стоящих раззолоченных стенда, поставленные около окон.
Все главные экспонаты, перенесенные в этот зал, также оказались с Рафаэлем так или иначе связаны. В центр поместили энигматичную скульптуру «Мертвый мальчик на дельфине», купленную Екатериной II как работа Лоренцо Лоренцетто, ученика Рафаэля, что теперь вызывает большие сомнения, а всю северную стену занял «Триумф Сципиона», великолепный картон для шпалеры Джулио Романо, переданный в 1924 году из музея Академии художеств. Джулио, самый талантливый художник мастерской Рафаэля, создал свой шедевр под явным впечатлением от знаменитых картонов своего учителя, по которым были вытканы ковры с сюжетами из Деяний апостолов для украшения Капелла Систина. На восточной стене была повешена роскошная шпалера с изображением Аполлона посреди знаков зодиака, опять же таки рафаэлевская по духу, вдоль стен расставили резную итальянскую мебель XVI века, но самое главное, в зале разместили собрание итальянской майолики. Оно в Эрмитаже одно из самых больших и полных в мире, и для того, чтобы его показать как можно лучше, большую часть конусообразных витрин на золоченых грифонах, предназначенных для резных камней, убрали, оставив лишь несколько в центре. Блюда и кувшины в старые витрины не лезли, поэтому стены зала заставили застекленными шкафами для новых экспонатов. В зале представлена вся история майолики начиная со Средневековья, но большая и лучшая часть выставленных вещей относится к первой половине XVI века, причем расписывавшие их мастера вдохновлялись гравюрами, сделанными по рисункам все того же Рафаэля. Несмотря на грубые новые шкафы-витрины, заслонившие росписи на стенах, предусмотренные фон Кленце, зал остался красивым. Вот тогда-то, после Второй мировой войны, в результате полного изменения экспозиции Императорский Эрмитаж, царская сокровищница, был окончательно превращен в Государственный Эрмитаж, музей мировой культуры. Зал камей переименовали из-за полного теперь там гемм отсутствия, и он получил сразу два названия: Зал Рафаэля и Зал итальянской майолики.
В последующие годы в зале что-то довешивалось и переставлялось, но в общем и целом он остался неизменным. Выставленные в нем предметы разнообразны, но соединенные вместе, они складываются в выразительную инсталляцию, прекрасно передающую самую суть римского стиля, расцветшего при папах Юлии II и Льве X. Можно, конечно, заметить, что все выставленные Рафаэли созданы до его переезда в Рим, майолика производилась не в Риме и даже не в его окрестностях, а в других областях, только часть из которых была присоединена к папским владениям в самом начале XVI века, «Мертвый мальчик на дельфине», скорее всего, не ренессансный, а картон Джулио, хотя и занимает самое видное место, рассмотреть практически невозможно из-за бликующего стекла. Все эти мелочи замечаешь, когда начинаешь умничать, а обязательно ли это? Общее впечатление от зала великолепно. Входишь из просвета, и в первую очередь бросаются в глаза огромный полновесный, величавый, истинно римский картон Джулио, узорчатый гротеск шпалеры с Аполлоном и витрина с ярко сияющей урбинской посудой, сплошь покрытой рисунками, варьирующими рафаэлевские мотивы. Вверху же –
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113