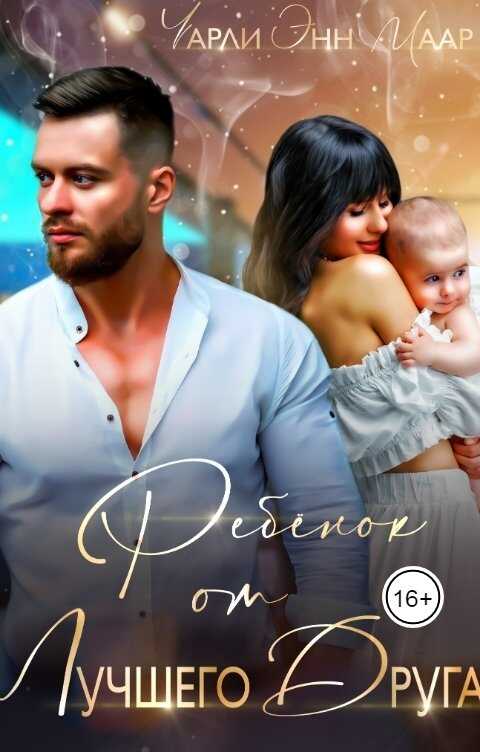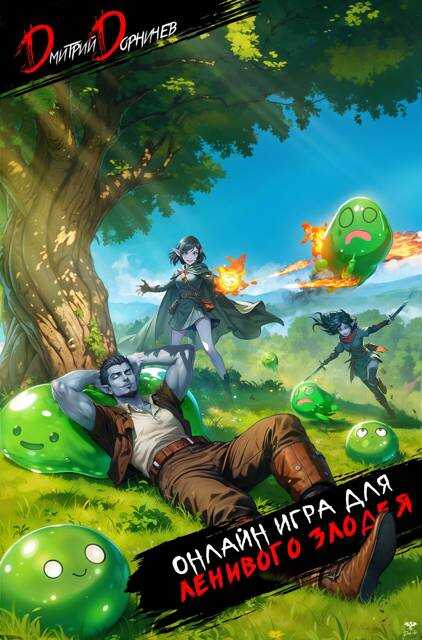собрав учеников в храме Гекаты, возжегши крупицу ладана и начав читать некий гимн, добился того, что начала улыбаться статуя богини, а потом вспыхнули лампады, которые несла она в руках, или рассказал бы что-то еще, что нравится людям, любящим театр. Те, однако, кто в философии видит не источник басен, но очищение души разумом, находят в Максиме человека, который учит упражняться в практической добродетели и считать богов водителями ко всему прекрасному – словом, встречает каждого в преддверии философской науки и вводит его в самое святилище. Получат ли они от этого пользу, пусть решат они сами, а лучше сказать, царствующие боги; Максим же всякого очищает от безумия, гнева и похоти, помогая подняться выше своей природы. Многие считают это заносчивостью и самонадеянностью, мы же скорее назовем это прекрасной отвагой человека, вверившего свою жизнь попечению бессмертных. Однажды Максиму и бывшему его соученику пришло послание от человека, которого называть я не буду, не из боязни, но по благоговению: он звал их к себе, лаская и расточая обещания. Максим сомневался, видя в этом приглашении и в той благосклонности, которою оно было рождено и наполнено, возможность принести великое благо как Азии, так и всей державе, но видя и большие опасности, тем более что им обоим явлены были некие суровые и остерегающие знаменья. Колебался и тот, второй, в отдалении от битвы взвешивая два жребия. Тогда Максиму явился во сне бог (легко узнаваемы боги), обративший к нему такие слова:
Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют.
Пробудившись, он безотлагательно пошел посоветоваться со своим товарищем и застал его в глубоком раздумье, затем что и ему привиделся сон точно такой же. Побеседовали они, и тот, второй, утвердился в мысли не только остаться, но и укрыться ото всех – боги, мол, будут благосклонны, если ничего предпринимать против их знамений – Максим же решил, что, если даны ему средства к благу, дана и обязанность его добиваться, и что человек образованный не обожествляет случая и не сникает перед первой помехой, но оказывает в трудах упорство, самим богам любезное. Так разделились их пути: один удалился, другой же покинул свой город, спокойное жительство, народное восхищенье и сейчас объезжает святыни Азии, дабы очищением и одиноким размышлением приготовить свою душу к деяниям величественней прежних.
– Не был ли он, – говорю, – и у нас в Апамее? Там ведь столько святынь, как мало где найдется: не город, а отрада благочестивой душе.
Тут мой собеседник, с радостью:
– Как, – говорит, – вы из Апамеи? Расскажи мне о ней, я жажду новостей: еще ли хранят город боги, внимавшие блаженному Ямвлиху? Живы ли те, кого он учил, и учат ли новых? Благополучен ли Сопатр, достойный сын того, что писал о провидении и пал от руки злобствующих на провидение? счастлив ли в детях, плодоносны ли его досуги, по-прежнему ли он строгий чтитель вышних? Что скажешь мне о Феодоре, единоборствующем с Аристотелем, – какие книги истекают из сего чистого ключа, озаренного лампадою ночных трудов? Видел ли ты Евфрасия? говорят, он навещает ваши края по старой памяти; все так же осторожный в своих воззрениях, по-прежнему предпочитает скорее утомить богов нерешительностью, чем прогневить отвагой? А что Евстафий, несравненная слава Каппадокии? Заезжал ли он к вам, воротясь из своего посольства, и что о нем сказывает? Очаровал ли персов, как эллинов чарует? Ты ведь слышал его речи, которыми он, как Гермес, людей связывает и ведет, куда вздумает? Думаю, пожелай он – и воды вашего Оронта повернул бы вспять, так что людям впредь нечем было бы клясться в вечной верности.
– Не из той, – прерываю я его, – Апамеи: наша та, что при понтийских водах; красноречие у нас цветет и философии мы не чужды; но скажи, что это такое было, что обличил и одолел твой Максим? Из людского ли мира оно или нет?
– Не из людского, – отвечает: – не только зримый мир рождает зло, и не только человеку дано совершать его и терпеть. Ведь и те демоны, что между нами и вышними снуют, словно некие торговцы божественным, делят с богами бессмертие, а с нами – все, что язвит и ласкает душу, так что и гнев им не чужд, и обида, и мстительность; а есть ведь и иные, те люди, что жизнь прожили в угождении похотям и душу запятнали всяческой скверной: они, как Платон говорит, отягощенные зримым и боясь незримого, по смерти носятся средь могил, привязанные к своему праху, и нам иной раз видны мглистые их очертанья: собственные пристрастия делаются для них карою. Этим злым духам и кровь нужна – они ведь питаются ее куреньем – и любое доступно обличье: так они и в образе высших богов приходят, требуя себе жертв, научая нас злодейству и благотворные небеса выставляя виновниками всякого непотребства, так и между людей промышляют, искушая добрых, обвиняя непорочных и незамеченными уходя отвсюду, где совершают несправедливость: им ведь от таких вещей бывает удовольствие, мало с чем сравнимое. Этому бы и стал ты ныне свидетелем, если бы, на радость гражданам и постыжение демонам, не оказался в этих краях наш Максим. Доводилось ему в такие подземные пещеры спускаться, беседуя во тьме с демонами и силою своей праведности добиваясь ревниво охраняемой ими истины, что это нынешнее дело, которое иному покажется великим и достохвальным, для него, почитай, ничто и долгой памяти не заслуживает. Нынче придя в этот город, узрев здешнее горе и тотчас уразумев потаенные его причины, отослал он нас, своих учеников и спутников, на постоялый двор, опасаясь за нашу жизнь, если найдет на нас демон, сам же в смиренном обличье явился сюда, чтобы заградить пагубные уста и преступную руку остановить. Надеюсь, я удовлетворил твоему любопытству; прости, мне надобно идти за ним, ибо я могу ему понадобиться.
С сими словами чудесный юноша меня оставил, я же, среди толпы заметив бродящими своих сотоварищей, прослышавших о беде и избавлении Динократа и, подобно мне, променявших ночной покой на утоление любопытства, подошел к ним, дабы обменять то, что я знаю, на то, что сведали они. Так мы полночи проводим между людьми, не отходящими от Динократова дома, словно какое зрелище им было обещано, и лишь к утру опускаем усталые головы на гостиничные тюфяки. Филаммон же, вопреки нашим ожиданиям, никакой речи в городе не произнес и