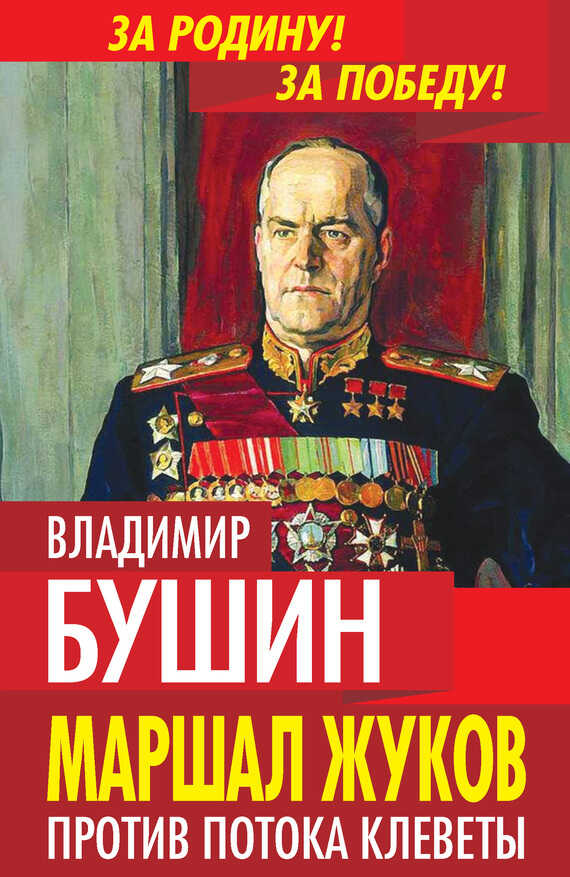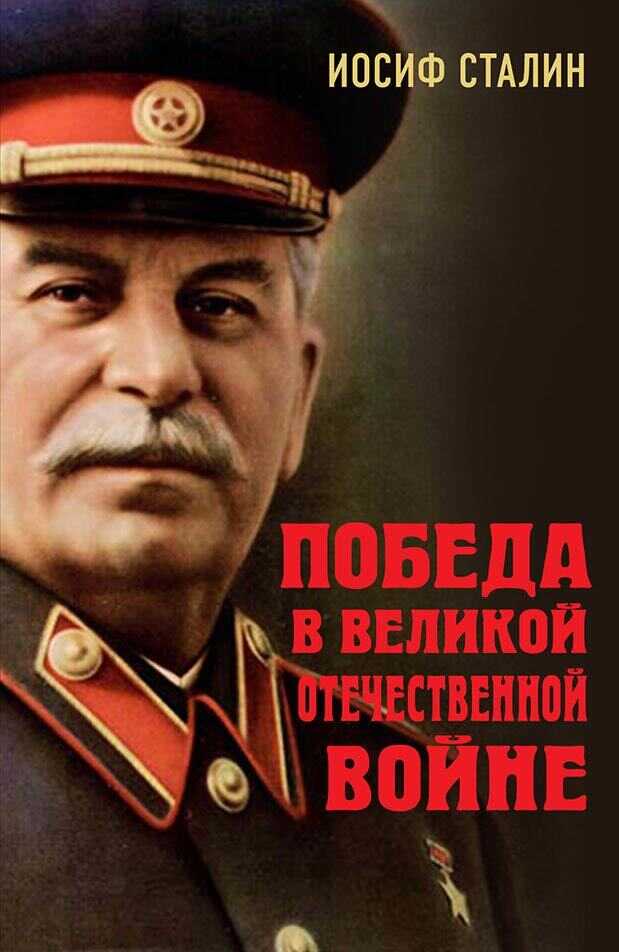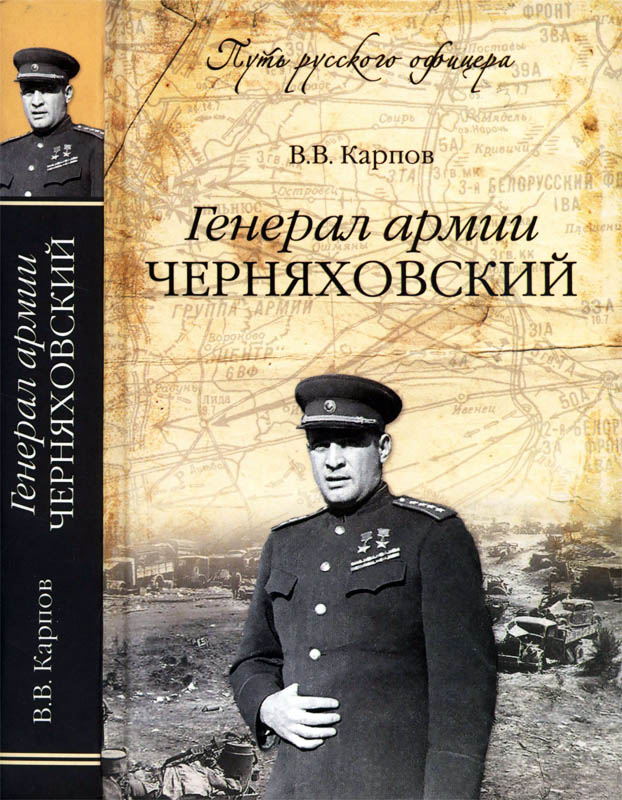девизом идти войной на русских? Вот, мол, мы, русские варвары, идем…Чепуха, конечно. На самом деле это прозвище германского короля, а с 1155 года императора Священной Римской империи Фридриха Первого. Прозвище, означающее «рыжая (красная) борода», он получил в Италии, куда нагрянул, стремясь расширить свою империю. Молодой Маяковский писал:
Не мучат меня
Иловайских вопросы —
была ли рыжа
борода Барбароссы…
Д. И. Иловайский – известный историк того времени.
Нет ничего удивительного в том, что Гитлер назвал свой план войны против СССР именем императора-агрессора. У нас тоже были операции, названные именами полководцев – Румянцева, Багратиона… Но все-таки странно. Ведь Барбаросса кончил печально: в июне 1190 года утонул в реке. Именно в июне! Так что название плана оказалось пророческим: начав тонуть в июне 1941 года, план Барбаросса пустил последние пузыри – буль-буль – в мае 1945-го. Барбаросс утонул вторично, вернее, его утопили с камнем на шее.
Я не стал бы писать об этих частных вещах, если автор не был бы полковником и в некотором роде даже военным историком. А главное, вся статья, а это краткое изложение его книги, – взгляд на военную биографию маршала Жукова и других военачальников через призму именно званий и наград. Признаться, ничего подобного я не встречал. Ведь это же совсем не главное, а лишь следствие.
Начинает со всей серьезностью: «На удивление, так много значимые (!) на той войне боевые награды Отечества своим защитникам за отличия на фронтах борьбы с иноземьем (!) до сих пор странным образом остаются «за кадром». А ведь здесь масса прелюбопытных историй». Конечно, и наградные истории могут быть любопытными, но надо бы прежде всего понимать, что мы воевали не за награды – решалась судьба родины. Но вот автор вводит «в кадр» некоторые из этих историй. Например, сообщает нам добытую им «тайну»: знаете ли, мол, вы, что «в наградных делах часто присутствует политическая составляющая. Например, Гитлер…». Да можно и без Гитлера обойтись. Кто же не знает, допустим, что в 1944 году двадцатилетний румынский король Михай был награжден нашим великим орденом Победа, хотя никаких побед не одержал, а только отправил в отставку Антонеску да словесно объявил войну Германии. Чистая политика! Да ведь это не только с орденами. Из политических соображений дали, например, Нобелевские премии – любопытные истории! – Горбачеву и Обаме, Пастернаку и Солженицыну.
Дронов решил раскрыть и обнародовать еще и вот какой «секрет»: порой маршал Жуков получал награды не за конкретные боевые заслуги, а в связи с юбилеями – Советской власти, Красной Армии и своими собственными: 50 лет, 60, 70… Да мы, дядя, всегда и это знали. По таким же самым поводам получали награды и Василевский, и Рокоссовский, и другие военные. И опять не только военные. Некоторые директора военных заводов, конструкторы оружия, работники госпиталей на фронте не были, но награждались военными, а порой даже и полководческими орденами. Но Дронов об этом молчит, ему надо выставить только Жукова как фигуру исключительную, одиозную и даже в наградном смысле позорную.
«Бросается в глаза, – пишет Дронов, – что полководческие награды у Жукова именно в самые тяжелые годы войны 1941-го и 1942 годов отсутствуют». Да, отсутствуют. А у кого из командующих армиями и фронтами, у работников наркомата обороны и Генштаба присутствуют? Время, сударь, было не то. Полководцам отступающих армий награды дают редко.
Некоторые из них получили награды только после нашего контрнаступления под Москвой. И Дронов злорадствует: «За подмосковные бои маршал Жуков все-таки был награжден… медалью «За оборону Москвы». Большего, мол, – ха! ха! – он не заслуживал. Ах, крохобор! И в голову ему не придет: а Верховный Главнокомандующий заслуживал? Ведь он тоже получил только эту медаль. А еще есть и такое соображение. Все командующие армиями и фронтами в Московской битве были и ниже Жукова по званиям, и не так щедро взыскана наградами. А он уже имел и звание генерала армии, и Звезду Героя, и три больших ордена. В такой ситуации можно было не спешить с новыми наградами, война предстояла еще долгая… Другое дело – после Сталинградской победы.
Но что такое полководческие ордена? Это ордена Победы, Суворова, Кутузова и другие. Как же мог Жуков или кто-то еще получить хоть один из них в 1941–1942 годах, если и захотели бы их наградить? Ведь эти ордена тогда просто не существовали, они были учреждены в 1943–1944 годы. Что ж вы, полковник, Ваньку-то валяете? Но у него другое объяснение: «Причиной тому могут быть только (!) совсем не те успехи, о которых так много говорят обратное его сторонники и он сам». Пойми, кто может, что он хотел тут сказать.
Полковник Дронов признает, что есть у Жукова полководческие ордена, но законность некоторых из них решительно отрицает. В доказательство несправедливого награждения Жукова орденами за участие в Сталинградской битве и вообще полной непричастности его к этой великой битве сует нам под нос: «О том, что не Сталинград был «виною» ордена Суворова (да дело-то не только в этом ордене, а и в звании маршала. – В.Б.), свидетельствует приказ наркома обороны Сталина от 19 июня 1946 года, изданный после рассмотрения дела маршала Жукова на Высшем Военном Совете…». Между прочим, на этом Совете с обличительными речами против Жукова выступили только Сталин, Берия и Каганович, а все военные – Василевский, Рокоссовский, Конев, Соколовский, Рыбалко и другие – отвергли клеветнические измышления о заговоре Жукова. Правда, резко выступил генерал Голиков, противник Жукова еще с довоенных белорусских времен. Он заявил, что в марте 1943 года Жуков безосновательно освободил его от командования Воронежским фронтом и назначил командармом 1-й гвардейской. Но тут Сталин подал реплику: «В данном случае Жуков выполнил мое указание» (В. Краснов. Неизвестный Жуков. М., 2000. С.463).
В том приказе, продолжает Дронов, «в частности говорится: «Утеряв высокую (в тексте «всякую». – В.Б.) скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, Жуков приписывал себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая те операции, к которым не имел никакого отношения…».
Во-первых, приказ этот был не от 19, а от 9 июня 1946 года. Очки надо сменить, полковник. Во-вторых, писал приказ не Сталин, писали Булганин и Василевский (В. Краснов. Неизвестный Жуков. М., 2000. С.464). В-третьих, сразу видна предвзятость, несправедливость подхода: Жуков нигде не писал же ничего подобного о своей роли, не говорил с трибуны, а, видите ли, – «в разговорах с подчиненными». Да мало ли что можно наплести