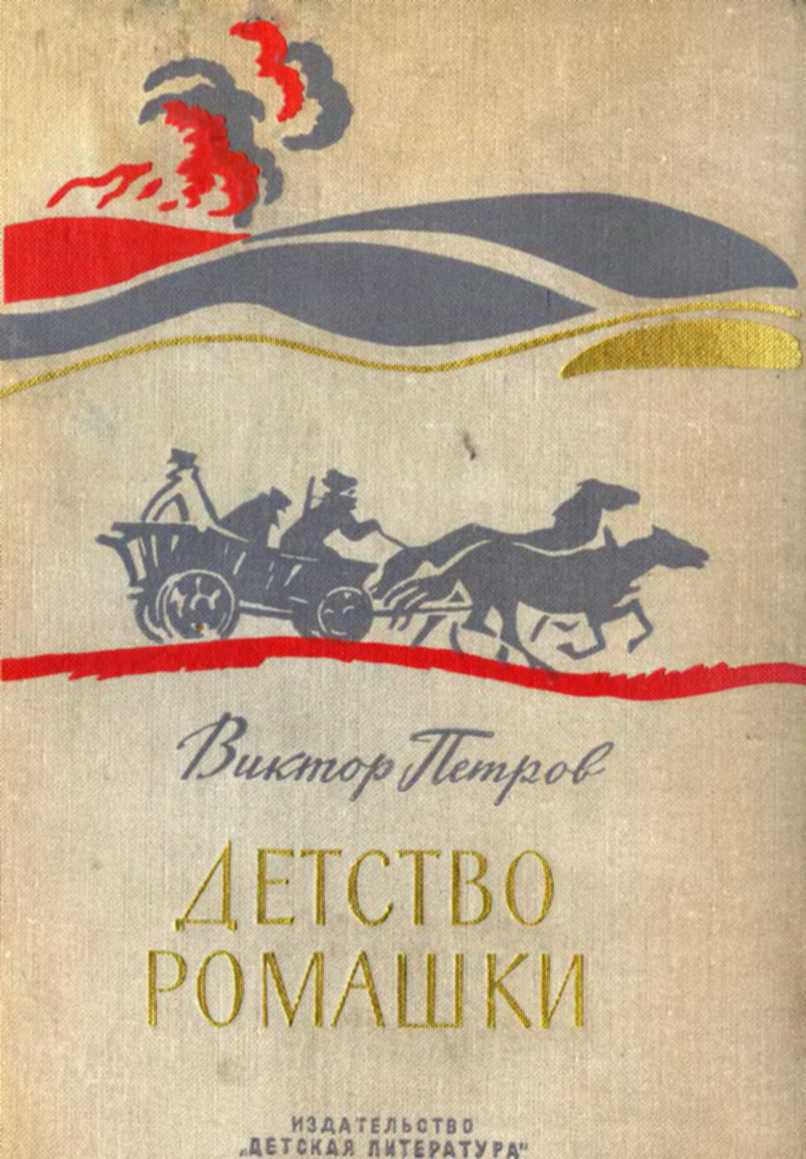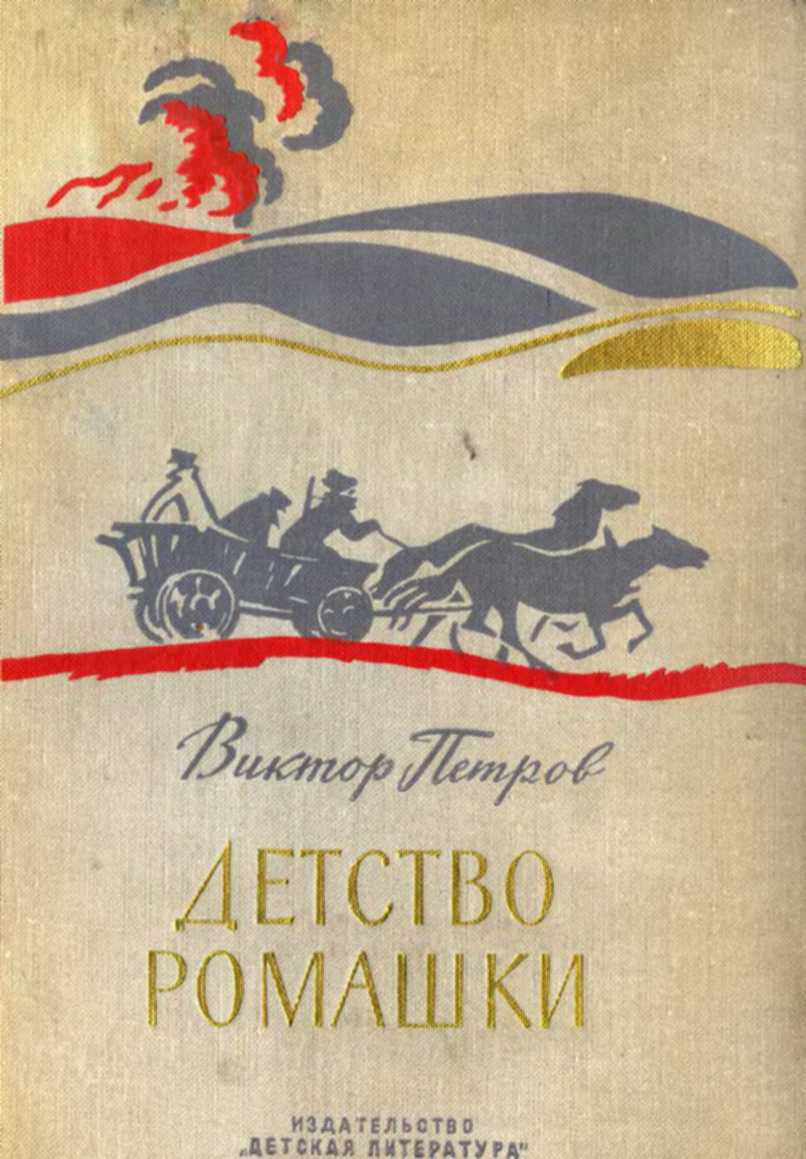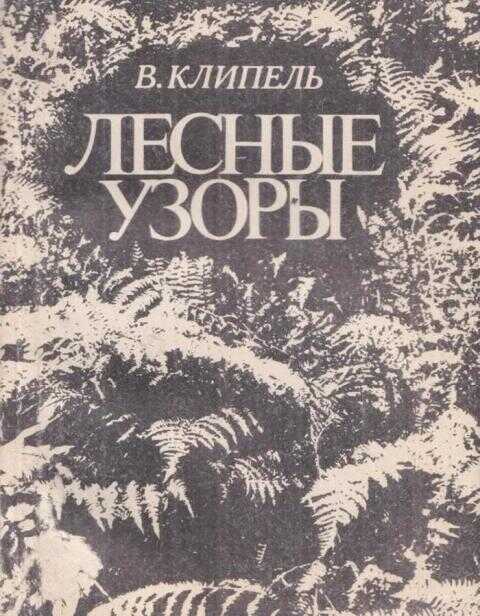слетелись со всей долины Канихезы. Они залепляли глаза, рот, нос, уши, забивали дыхание. Даже в самую ненастную погоду в сопках было меньше гнуса, чем здесь, в сыром пойменном лесу, где все задыхалось от жаркой испарины. А может, подошло самое время комара и мошки?
Чертыхаясь, проклиная весь свет, поминая недобрым словом ученых, которые выдумывают всякие атомные бомбы, а вот такой ерунды, как защита от гнуса, не осилят, корневщики наспех свалили сушину, разделали ее на чурки, снесли к воде. На открытом месте меньше гнуса, но овод одолевал. Пока запиливали в чурках пазы, потные руки облились кровью: не станешь же из-за каждого укуса бросать инструмент! Вскоре плот был готов, и Федор Михайлович кликнул Володьку и Алексея.
Они пришли с мешками, карабином, рульмотором. Плот под ними закачался, они уравновесили его, упершись в дно шестами. Бревна почти скрылись в воде, но не тонут. И то хорошо.
— Ничего, сдержит. В случае чего пристегнете еще какую плавину, — сказал Федор Михайлович. Он махнул рукой: — Айда! Неч-ча время терять.
— Счастливо доплыть!
— Слышь, Алексей! — крикнул вдруг Павел Тимофеевич. — Может, ребят моих увидишь, скажи чтобы сюда шли.
— Ладно. Встречу, так передам!
Алексей и Володька вывели плот на середину Канихезы и стали удаляться. Плота не видно было из воды, и казалось, что они стоят на блестящей ровной поверхности и река несет их, как на эскалаторе метро.
— Чурки скоро напитаются, еще ниже осядут, — сказал Шмаков озабоченно. — Доплывут ли?
Федор Михайлович и сам переживал за людей, потому что легче принять трудное дело на свои плечи, чем посылать на это других. Чужая забота больно задела его:
— Ни черта, не маленькие, доплывут! — ответил он с неожиданной злостью и зашагал к избушке.
Пусто и неуютно стало в избушке. Все молчали, а если приходилось кому молвить слово, говорили вполголоса, словно чего-то боялись.
Павел Тимофеевич держался особняком, хмурился. Все умылись, расселись за столом, а он набил трубку табаком, удочку в руки и пошел ловить рыбу. Наживку искать не надо, оводов хоть отбавляй, только успевай прихлопывать, когда вопьются прямо через рубашку или брюки.
Иван понимал причину его подавленного состояния: обделили на корневке, а тут еще похитили лодку. Это уже ощутимый удар по его материальному положению, потому что на реке жить без лодки почти невозможно: ни сена накосить, ни за дровами съездить, ни на рыбалку, ни за ягодами. Худо-бедно, а такую большую лодку дешевле, чем за сорок-пятьдесят рублей не купить. Нехорошо получилось. Шел человек заработать, а вместо этого сплошные убытки.
— Обижается мужик! — сказал Иван, когда Павел Тимофеевич ушел. — Не по совести поступили, а тут еще пропажа.
— Что я, виноват? — вскинулся Федор Михайлович. Он покраснел, глаза сверкали зло, колюче. — Нашел бы я эти корни, так черт с ними, хоть совсем он не ходи — сунул ему пай, и дело с концом. Конечно, ему обидно, да разве столкуешься? — он выругался. — Компания подобралась — им одно, а они тебе другое…
Значит, Володька и Алексей настояли на своем, не посчитались даже с мнением своего «старшинки». Иван решил довести разговор до конца:
— Лодка ведь денег стоит. Выезжали вместе, почему один должен страдать за всех? Надо человеку как-то помочь.
Федор Михайлович промолчал.
— Вот грузины, — заговорил Шмаков, — те друг за друга стоят. Я в Закавказье несколько лет служил, насмотрелся. Всякие там сватья-братья, они там этим родством переплелись, без пол-литра не разберешь. Подвыпьют, так бывает и грызутся между собой, а тронь кого — горой.
— Да какая там у него лодка, — презрительно сказал Миша. — Корыто — три доски. Подумаешь, потеря.
— Конечно, потеря… Сколько, по-твоему, стоит лодка?
— Да ни черта не стоит. Что он покупал эти доски? Так достал. Ведь сын в леспромхозе работает.
Федор Михайлович прихлопнул ладонью по столу:
— Ладно, хватит. Попробуй сам сделать, тогда и скажешь, стоит она, чего или нет. Приедем на место, решим, как быть. В крайнем случае скинемся по пятерке. Не скоты же — люди!
Утром никто не торопился вставать — спешить было некуда. Завтракали поздно, а потом слонялись из угла в угол, не зная, чем заняться, прислушивались, не доносится ли бойкое журчание мотора. Ивану этот день показался удивительно долгим; так тянется время на вокзале, когда ждешь поезда. Теперь, когда поиски были закончены, каждый час — напрасно потерянное время, отдалявшее возвращение домой. После раздумий в ту дождливую ночь Ивана не оставляла мысль о семье: как там они, здоровы ли, все ли у них в порядке? Ехать бы скорее, а тут сиди и жди у моря погоды…
«Старшинки» отлеживались на чердаке и о чем-то бубнили вполголоса. Павел Тимофеевич был вспыльчив, но отходчив и долго сердиться не мог. За ночь отошел душой и снова стал словоохотлив, готов услужить всякому.
Посасывая трубку, он высчитывал, сколько потребуется Володьке и Алексею времени, чтобы доплыть на плоту до поселка и вернуться назад уже на лодке. По всему выходило, что за два-три дня должны обернуться. Если, конечно, не загуляют. В разговорах, чаепитиях прошли три дня. Вечерело, когда издали донеслось натужное гудение рульмотора.
— Едут наши, — сказал Миша и стал прислушиваться. Звук то затихал, пропадая совсем, то усиливался вновь.
— По кривунам петляют, — заключил Павел Тимофеевич. — На берег надо выйти, оттоль лучше слыхать. По воде звук легче бежит.
Звуки нарастали, становились отчетливее, и вскоре из-за кривуна вынеслась длинная плоскодонная лодка. Володька, сидевший впереди, приветственно взмахнул рукой.
— Ну, как добрались? — спросил Федор Михайлович.
— Хватили лиха, — ответил Алексей. — Немного отплыли, тонет плот под нами, хоть пропади. К залому подходить стали по щиколотки в воде. А тут темнеет и еще медведь…
— Какой медведь? — удивился Федор Михайлович. — Отколь его черти вынесли?
— А вот Володька не даст соврать: плывем, а он то ли черемуху обламывал, и мы его потревожили, то ли берегом брел и увидел нас…
— Речушка узкая, а он стоит и рявкает, — вмешался в разговор Володька. — Перетопит нас, думаю. Ну я и стебанул по нему! — Володька жестами показывает, как вскинул карабин, выстрелил.
— Большой был? На сколько потянул? — засыпал его вопросами Миша. — Мясо ничего? А то бывает, что летом и жрать иного нельзя — воняет.
— А черт его знает, я ему в зубы не смотрел. Пальнул два раза, видел, что оба раза попал.
— Эх ты, стрелял, так чего бросил? Может, он тут же и окочурился?
— Не-е, эта тварь живучая, ушел. Слышно было, как по кустам ломился. Конечно, может, потом и подох, мы назад ехали, видели — воронье там кружится. Не так бы поздно, можно бы пройти за ним, посмотреть. А